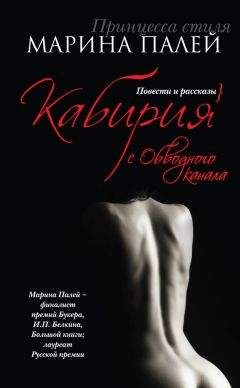Я падала.
И вставала.
Падала и вставала.
Падала, вставала, взбиралась в горку, летела на санях вниз, слетала с полозьев, пикировала, описывая плавную параболу, головой в сугроб, вскакивала, по-собачьи отряхивалась, бежала вниз, к саням, поднимала их – беспомощные (торчавшие полозьями вверх где-нибудь далеко от подножия горы) – снова ползла к вершине... Всё это под ее заливистый хохот.
Она, бывало, вволюшку накатается и сидит себе на санках, сизо пыхтя сигареткой (огненный кончик которой вряд ли был ярче ее румянца)... Ну ты упёртая, медленно произносит она, не выпуская сигаретки из плотно сжатых зубов.
Оттого получается так, будто лицо у нее оскалено.
Довольно циничный видок.
Руки – в карманах шубки.
Глава 21
Commedia dell’Arte
Однажды – именно в один из таких дней, когда мы сидели на верхушке горы и обе курили, – она, внимательно посмотрев на меня, очень раздельно проговорила: когда накатаешься, я тебе кое-что скажу. И прищурилась: очень важное. Я уже накаталась, сказала я, говори. Не-а, засмеялась она, именно когда накатаешься, а не нападаешься. А ты не забудешь, что хотела сказать? – не сумела скрыть свою слабину. Нет, она комично подкатила глаза и с подчеркнуто-театральной интонацией добавила: ах! такое – не забывается...
Чудесны дела Твои, Господи. Приняв приказ, мозжечок – одновременно – словно заполучил защиту от внешнего (сбивавшего с толку) магнита – и запустил свою фирменную, отлично сработанную программу.
Я съехала и не упала.
И снова съехала благополучно.
И снова.
И вдругорядь, как сказал бы классик.
В пятый раз я гнала, как от волков.
В шестой – гналась за волками.
В седьмой – горланила песню (стыдоба еще та, но, кажется, «Из-за острова на стрежень...» – или «Ой, мороз, мороз...»). Короче, распахнув рот во всю его красноту – как дракон, изрыгая клубы пара...
А остальных полетов уже не помню. Они слились в один Большой Полет. Напрочь оказались вычеркнуты (выстрижены) из памяти прозаические вскарабкивания на стартовую площадку. Возможно, эти мои тараканьи вползания в гору (беспрерывно воспроизводившие сами себя, словно в провокационном видеоклипе) хранятся где-то – кто знает, где – и являются время от времени неожиданным содержанием чьих-то снов. В свою очередь, не исключено, что и мой зимний ингерманландский рай был взят в аренду из чьих-то там сновидений. Кто знает? Ни доказать, ни опровергнуть.
...Я вспоминаю себя, когда ее голос говорит: хватит, уже темнеет. А что ты хотела мне сказать? – позорюсь я снова. Пошли назад, поздно уже, такой получаю ответ. Ну, говори! я не выдерживаю. Прекрати, а? – она гнусавит и морщится. Если мы сейчас не сдадим санки, надо будет доплачивать, а денег нет. Так ты это хотела сказать?! – взвиваюсь я (и насилу сдерживаюсь, чтоб не вмазать ей по физиономии). Она насмешливо взглядывает – и не отвечает.
Мы тащим санки узенькой лесной тропкой, и это, конечно, не самая подходящая ситуация для выяснения отношений. Да и финские санки не для того предназначены. (Пару десятков лет до того я вот что делала иногда: привязывала к спинке своих саней простыню, и, когда санки слетали с холма на тусклое серебро озера, простыня, в которую мощно вдыхал жизнь Гиперборей, работала как парус! Лихой, флибустьерский, хотя и белый...)
А сейчас мы, проваливаясь в снег, санки тащим – то есть тягаем их, как упирающихся домашних животных, которым совсем не по нутру ждущее впереди мероприятие – то ли плановая случка, то ли внеплановая прививка, а то – неизбежная, хотя и всегда неожиданная скотобойня. В общем, эти животные не ожидают от человека ничего хорошего, и было бы лицемерием их предчувствия отрицать. Мы упрямо тащим сани – они упираются, цепляют полозьями за корни, за обледенелые сучья... Мы их тянем, они буксуют, чуть ли не брыкаются, а иногда умудряются боднуть деревянной ручкой прямо в живот. Девочка, вот чудо, даже не жалуется, что именно я, из-за «любви к природе» (обратная сторона моей «мизантропии»), прельстила ее этим буерачным экстримом.
Наконец она устает. То есть, в отличие от меня, усталость она проявляет, притом в открытую. Говорит: давай сядем. Не дожидаясь ответа, садится на санки и закуривает. Хочешь? – полупротягивает «Космос». Нет. Я столько не курю. (Как раз очень хочу, но могу сдержаться.) Что ты хотела мне сказать?! (Вот здесь не могу сдержаться никак...) Помнишь или нет? Ну да, с неожиданной охотой говорит она, а ты не обидишься? Давай уже, мычу я.
Мое дыхание пока остается сбившимся, а ей хоть бы что: спокойно, даже, пожалуй, подчеркнуто-спокойно, она выпускает колечки – прямо как Михаил Барышников в фильме «White Nights», когда сразу – после баснословного (казавшегося бесконечным) каскада прыжков, фигур восковой гибкости, сложнейших, словно бы противоречащих законам физики поворотов – он достает сигаретку и демонстративно-ровным голосом произносит: «Tonight».
А у меня ещё и сердце пошаливает. То есть побаливает. О чем я тоже, конечно, молчу. В голове проносится полумысль: если она сейчас отчебучит что-нибудь эксцентричное, то... Я лучше не скажу, я – покажу, – в этой точке моей полумысли ввинчивает голосок она. Лезет в карман шубки. И вот – что-то сверкает в ее руке...
Я вижу круглое, в сером пластмассовом ободке, зеркальце. Оно похоже на озерцо, что блестело невдалеке от Дома моего детства. Ну да: тот же, только уменьшенный в размерах ландшафт. Все пропорции соблюдены. Ее ладони, вместе с согнутыми пальцами, – это холмы. Быстро покрывающие их снежные холмики – это сугробы... Я принимаю из ее рук зеркальце, внутренней стороной варежки протираю поверхность...
...Перед выходом из дома я накрасилась. Ну, то есть сделала макияж. Довольно редкое для меня занятие. Но почему-то мне показалось сегодня, что этот розовато-золотой, дымчато-голубой зимний день требует от меня, как скажет некий политик через двадцать лет, «симметричного ответа». А может, бог его знает, мне хотелось соответствовать не дню, а конкретно этой девочке, пребывающей, с той или иной степенью яркости (и независимо от времени года), в пластовском великолепии (см. А. Пластов «Весна»). Не самый опытный визажист, я просто густо накрасила ресницы (ее самодельной «фирменной» тушью) и обвела карим карандашом глаза. После чего, в Келломяках, слетая с горок, я еще иногда успевала подумать, что выгляжу под стать окружающей красоте. И вот сейчас, пытаясь собрать по кусочкам свое раздробленное лицо – свое лицо, разорванное на куски чужой мелкой оптикой, – я слушала ее резкий визгливый смех...
Ох, это с самого начала случилось, постанывала она, еще когда ты в сугробах барахталась... я чуть не лопнула, на тебя глядя...
А я видела в холодно-отчужденном (и всё норовящем ускользнуть) оке озера-зеркала вовсе не свое – румяное и, как я полагала, почти привлекательное лицо – но чумазую физиономию не знакомого с мылом шкета-беспризорника – только не в саже и копоти, а в разводах многократно размазанной туши. Велика ли разница?
Размазанные разводы.
Отчетливый цвет сохранился лишь в виде длинного вертикального штриха – резко, как у Пьеро, черневшего от нижнего века вдоль щеки – вниз, вниз – словно след несмываемых слез.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
СЛЁЗНЫЙ КАНАЛ
Парацельс считал, что саламандра, по самой натуре своей, не может общаться с человеком – в отличие от водяных существ, например, нереид, которые весьма расположены к людям, поскольку в последних преобладает соприродная нереидам вода. Глава 1
Бор
Помню и другое направление наших зимних походов – в сторону Ладоги.
До Ладоги как таковой мы, впрочем, не доезжали, потому что нам (мне) нужен был не открытый ветрам берег, а заповедная чащоба.
...Особенно важна для меня была чащоба в тот день (самого конца февраля), на который я назначила свой план.
Мне нужна была утроба хвойного леса – глухая, дремучая.
Мне нужна была мохнатость медведихи, ее доброе материнское брюхо.
...Сейчас, через двадцать лет, я вижу то, что хочу видеть.
Вот я с девочкой прячусь в зимнем бору. А бор этот красуется двойным нарядом: монолитными, словно вырубленными из малахита, тяжелыми шубами – и роскошными, поверх них, палантинами из голубых песцов...
И я прячусь с девочкой в самой глубине того укромного царства.
В тот день воздух был чуть сыроватый, серовато-сонный... Мы спрыгнули с электрички на платформу, в нескольких шагах от которой лес уже вошел в силу.
Исчезли залысины и просветы – ели стояли стеной.
И чёрен, и смолен – до неба заснеженный бор...
Уютно-угрюмый...
Стена обрамлена поверху зубьями-пиками – грозными, хотя чуть смягченными снегом.