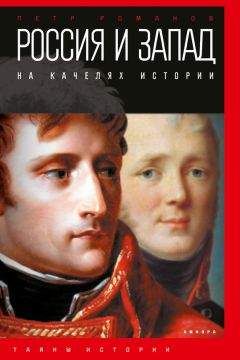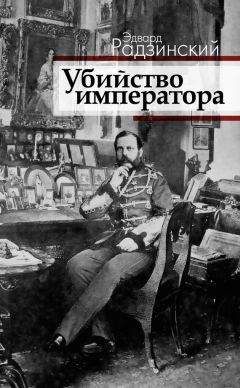Первая была казенного чекана. Ее проповедывали министры, как Сергей Уваров, и профессора, как Степан Шевырев; журналы на содержании П1 Отделения, как «Северная пчела» Фаддея Булгарина, и авторы популярных исторических романов, как Михаил Загоскин. Грандиозные «патриотические» драмы третьестепенного поэта Нестора Кукольника, такие как «Рука всевышнего отечество спасла», собирали аншлаги. С подачи известного литературоведа А.Н. Пыпина вошел, как мы помним, этот «государственный патриотизм» в историю под именем Официальной Народности.
Глава вторая У истоков «государственного патриотизма»
Центральный парадокс
Да и то сказать, разница между ним и национал- либеральным славянофильством была и впрямь огромной. В первом случае имели мы дело с национализмом «бешеным», во втором - с умеренным, мягким, интеллигентным, в котором явственно еще звучали критические и либеральные мотивы декабризма. Если Официальная Народность начинала прямо с «национального самообожания», то национал-либералы удовлетворялись «самодовольством». Еще важнее было то, что первая, как и подобает идеоло-
Его соперница, известная под именем славянофильства, никакой поддержкой правительства не пользовалась. Она вызревала в недрах самого общества, была тем ответом на безнадежное Чаадаев- ское memento mori, в котором отчаянно нуждалось постдекабристское поколение образованной молодежи. Государственный патриотизм она откровенно презирала.
гии государственной, делала ударение на внешней политике, а у славянофилов никакой еще внешней политики в ту пору не было.
Короче, две Русские идеи, возникшие в духовном вакууме, отличались друг от друга резко, как только может живая мысль отличаться от казенного канцелярского монолога. Можно сказать, что славянофильство помогло русской культуре выжить в условиях, когда, как записывал в дневнике либеральный цензор А.В. Никитен- ко (27 апреля 1843 г.), «гнусно, холодно в природе, но чуть ли не еще гнуснее среди этой нравственной пустыни, которая называется современным обществом»[23]. Помогло уже тем, что оказалось, по сути, единственной публичной альтернативой удушающему государственному патриотизму. Мы еще увидим как.
Сейчас заметим лишь, что перед нами парадокс - для этой книги центральный. Подумайте, как в самом деле могло случиться, что оппозиционная идеология, национал-либерализм, словно пламень ото льда отличавшаяся от официальной, двинулась вдруг после Крымской войны ей навстречу - да так безоглядно, что в конечном счете с нею слилась? И в момент, когда славянофильство обрело, наконец, свою внешнюю политику, оказалась она именно политикой государственного патриотизма?
Современные историки, изучающие националистические идеологии, обычно обращают внимание на разницу между ними - мягкие отличают от жестких, либеральные от «бешеных», безобидные, граничащие с нормальным патриотическим чувством, от человеконенавистнических. Все эти идеологии, полагают историки, как бы сосуществуют параллельно друг другу, образуя некий националистический диапазон (или на ученом языке «дискурс»). И каждая требует индивидуального, так сказать, подхода. Славянофильство, допустим, следует изучать само по себе, государственный патриотизм сам по себе, а черносотенство и расизм сами по себе. И ни в коем случае не дозволено подверстывать одну идеологию к другой. В просторечии - мазать их одной краской.
Этот преобладающий сегодня «дискурсный» подход имеет свои достоинства. Вот и я ведь очень старательно подчеркнул, как глубоко
отличалось первоначальное, классическое славянофильство от николаевского государственного патриотизма. Достаточно сказать, что оно, подобно декабризму, считало крепостное право позором русской жизни, тогда как Официальная Народность его оправдывала и даже пыталась увековечить. Проблема, следовательно, лишь в том, что «дискурсный» подход никак не объясняет наш центральный парадокс, т.е. эволюцию славянофильства, его постепенную трансформацию из национал-либеральной идеологии в государственный патриотизм, а затем и в черносотенство.
Короче говоря, «дискурсный» подход хорош, когда его предмет, националистическая идеология, изучается в состоянии статичном, динамику её - и тем более деградацию - он не объясняет. Не объясняет и узурпацию ею самого представления о патриотизме, той подмены его национализмом, в которой, собственно, и состоит драма патриотизма в России. Между тем именно над этим парадоксом как раз и ломали себе голову такие серьезные и современные ему наблюдатели, как Герцен или Соловьев.
Шава вторая У истоков «государственного патриотизма»
Герцена
Впервые Александр Иванович попытался объяснить его еще в 1851 году в статье «Московский панславизм и русский европеизм»17. Вот как он это делал: «Славянофилы с ожесточением напали на весь петербургский период [русской истории], на всё, что сделал Петр Великий и, наконец, на всё, что было европеизировано, цивилизовано. Можно понять и оправдать это увлечение как проявление оппозиции, но, к несчастью, эта оппозиция зашла слишком далеко и увидела себя тогда странным образом рядом с правительством против собственных стремлений к свободе».18
Но как же все-таки не увидели этого парадокса сами славянофилы? Ответ Герцена, увы, скорее, тривиален: «решив a priori, что всё...
Объяснение
17Герцен А.И. Избр. философские произведения. Т. 1, М., 1948.
введенное Петром, скверно, славянофилы дошли до восхищения узкими формами московского государства и, отрекаясь от собственного разума и познания, с рвением устремились к кресту греческой церкви... Исполненные негодования против деспотизма, они приходили к политическому и моральному рабству»19.
Но тут ведь никакого парадокса нет, напротив, это вполне логично. Не могли же славянофилы ограничиться одним отрицанием. Как для всякой осмысленной оппозиции, требовался им, так сказать, второй шаг, позитивный, требовался идеал (или, как сказали бы сегодня, проект будущего), который могли бы они противопоставить деспотизму существующей власти. Но поскольку чаадаевский или, если хотите, екатерининский проект («Россия есть держава европейская») был для них лишь инобытием ненавистной им «петровской системы», а торжествующую Официальную Народность презирали они тоже, пришлось искать свой проект будущего в прошлом - в «истинно русской», как им казалось, допетровской Московии. Не заметив при этом, что как раз в ней и берут начало крестьянское рабство и деспотизм.
В принципе объяснение Герцена более или менее верно. Бросаются в глаза, однако, три его серьезных недостатка. Во-первых, основная мысль не выходит за рамки враждебного отношения славянофилов к реформам Петра, приведшего их к восхищению фундаменталистской Московией. Возникает, однако, элементарный вопрос: а если бы тогдашние славянофилы менее враждебно относились к Петру и не подняли на щит «узкие формы» Московии, если бы, другими словами, отвергли они европейское будущее России по какой-нибудь иной причине, изменило бы это обстоятельство общую траекторию их политической эволюции? Вопрос остался без ответа.
Во-вторых, не принимая всерьёз феномен николаевской Официальной Народности и откровенно его высмеивая, Герцен, к сожалению, не заметил, что антипетровский курс на «ретроспективную утопию», как назвал славянофильское восхищение Московией Чаадаев, взяло не только национал-либеральное крыло тогдашней русской молодежи, но и само правительство. Иначе говоря, движе-
ние назад, к Московии происходило в николаевской России не только снизу, но и сверху.
В-третьих, наконец, писал все это Герцен задолго до Крымской войны, т.е. до катастрофического падения России со сверхдержавного Олимпа и, стало быть, до того, как поняли национал-либералы несущественность ихтеоретических расхождений с правительством по поводу Московии по сравнению с тем, что их с ним объединяло, т.е. с недоверием и неприязнью к Европе. Не говоря уже об их тоске по реваншу. (С этой стороной дела Герцену предстояло еще познакомиться 12 лет спустя, в 1863-м, во время очередного польского восстания. Подробному описанию этой роковой для обеих сторон встречи посвящена четвертая глава этой книги.)
Объяснение
В общем объяснение Герцена, хотя и дает читателю некоторое представление о начавшейся уже в 1840-е политической эволюции славянофильства, оставляет все-таки чувство неудовлетворенности. По-видимому, страстные идейные битвы времен его молодости заслонили для него действительный смысл политической эволюции славянофильства.