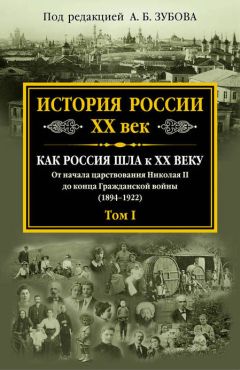Следуетлишь иметь в виду при их оценке, что одна из них современна, хоть и возникла в позапрошлом столетии, а другая, даже если чернила на ней еще не просохли, средневековая. Одна, стало быть, исходит из того, что история движется (и вместе с ней меняются политические идеи и формы государственности), другая — из того, что исторического движения не существует. И средневековая логика Николая не могла в конечном счете не привести — и привела — к знаменитой формуле Константина Николаевича Леонтьева, что «Россию следует подморозить, чтоб она не гнила».
Поэтому прежде, чем спорить, каждому из нас следует определиться, какую именно из двух эти логик он предпочитает. В этом смысле работа «восстановителей баланса» может быть оправдана лишь с постмодернистской точки зрения, согласно которой в истории нет ни правых, ни виноватых. С точки зрения нормального человека, однако, выглядит она скорее как попытка защитить от критики истории средневековую логику Николая Павловича.
Глава первая Вводная | j^Qjyjy бЫЛО ХОРОШО
при Николае? Из всех «восстановителей баланса» Брюс Линкольн оказался единственным, кто не устрашился поставить вопрос не только о том, как «неуклонно формировалось» при Николае гражданское общество, или о благодеяниях официальной народности, но и о том, как жилось при нем людям. Помните, «царствование Николая было хорошим временем для многих в России»? На самом деле именно этот аспект ставит под вопрос всю их аргументацию. Ну, пусть игнорируют они мнение кумира университетских историков С.М. Соловьева. Или академика А.В. Никитенко. Или самого даже М.П. Погодина (помните, «рабы славят ее порядок»?) Но не следовало ли отечественным «восстановителям баланса» хотя бы спросить себя, как сделал Линкольн, кто же в таком случае были те «многие», для кого николаевское правление было хорошим временем?
Уж, наверное, не подавляющее большинство народа России, положение которого, по признанию самого Линкольна, «постоянно
ухудшалось во времена апогея самодержавия, поскольку господа взимали с них тогда все более тяжелые поборы деньгами, натурой и трудом». Более того, «поборы эти стали тяжелее, чем когда-либо
*
раньше».84 И крестьяне, между прочим, в отличие от диссидентов, эзоповским языком своего отношения к режиму не маскировали и самиздатом, вроде письма Белинского Гоголю, не баловались. Просто убивали своих мучителей. «Мы живем среди кровопролития», — жаловался в письме Гоголю Степан Шевырев, соредактор Погодина по «Москвитянину»?5
Но если не крестьянам и не «образованному обществу», то кому же все-таки было при Николае хорошо? Боханов или Нарочницкая, допустим, как и следовало ожидать, даже не видят проблемы. Для них важно лишь, что хорошо было самодержавию, которое, как они думают, единственное «отвечает духу народа».86 Линкольн, в отличие от них, проблему видит. И приводит примеры тех, кому якобы было хорошо при Николае. Их, правда, всего два. Первый, как и следовало ожидать, — военный, генерал А.Е. Зиммерман («Все было спокойно и нормально... Никакие диссонансы не расстраивали общую гармонию»), вторая — великосветская дама, баронесса М.Н. Фредерике («Статус России был велик и благороден при Николае Павловиче. Все преклонялись перед ним и перед Россией»).87
Что и говорить, негусто. Подвела, как видим, американского историка попытка поставить вопрос в человеческом, так сказать, аспекте. Не получилось. Не нашлось на самом деле тех «многих», кому жилось при Николае хорошо. Если не считать, конечно, генералов и придворных. Но сопоставимы ли они в качестве свидетелей эпохи, скажем, с Тургеневым или Аксаковым? И действительно ли «балансируют» их лестные высказывания жестокий приговор Соловьева, Никитенко и Погодина? Я надеюсь, что после выхода в свет этой книги, адвокатам «искренне национального» императора придется все-таки ответить на эти вопросы, если они и впрямь намерены восстановить баланс в его пользу.
Bruce Lincoln. Op. cit., с. 152.
А.Г. Дементьев. Очерки по истории русской журналистики, М.-Л., 1947, с.8.
A.H. Боханав. Цит. соч., с. юо.
Bruce Lincoln. Op. cit., p. 152.
глава первая ВВОДНЭЯ
Московия
век XVII
ВТОРАЯ
ГЛАВА
глава третья Метаморфоза Карамзина
глава седьмая
глава четвертая «Процесс против рабства» глава пятая Восточный вопрос глава шестая Рождение наполеоновского
комплекса Национальная идея
ГЛАВА ВТОРАЯ Московия:1 81
век XVII
Московский период был самым плохим периодом в русской истории... Киевская Русь не была замкнута от Запада, была восприимчивее и свободнее, чем Московское царство, в удушливой атмосфере которого угасла даже святость. х Николай Бердяев
Читатель помнит, надеюсь, главный аргумент современников Николая, что смысл его царствования состоял в отрицании европейского просвещения и тем самым в возвращении России, насколько было это возможно в XIX веке, ко временам «болотных гадов» и «стрелецких бунтов», другими словами, в допетровскую Московию. Уже по этой причине, я думаю, читатель имеет право узнать более подробно, что, собственно, представляла собой эта Московия и какова была её роль в русской истории. Тем более что, как мы уже знаем, именно ей суждено было по прошествии трех столетий стать центральным мифом в арсенале современных российских «восстановителей баланса» (если понимать под этим всех принципиальных защитников «особнячества»).
В двух словах, Московия была первой попыткой России пойти, как модно сейчас говорить, «своим особым путем», зажить, по словам М.П. Погодина, «миром самодовольным, независимым, абсолютным».[16] Иначе говоря, миром отдельным от Европы и вообще от «поганого Запада», как с предельной ясностью сформулировала одна экзальтированная современная певица. И поэтому, если верна предложенная здесь «национальная схема», говоря языком Г.П. Федотова, именно в Московии XVII века и должны были впервые проявиться характерные черты всех последующих попыток Рос- в сии «трижды плюнуть на Запад», по выражению той же Анны (Жанны) Бичевской. Чем закончилась эта попытка, нам и предстоит здесь выяснить.
Спору нет, николаевская «Московия», так же как и последовавшая за нею советская, были несопоставимо более изощренными и сложными государственными образованиями. В них не было средневековой наивности и прямолинейности их прародительницы. Вполне примитивная ее сущность скрывалась в них за внешне цивилизованными формами: в первом случае за куртуазными манерами императорского двора и французским языком, ставшим после Екатерины общеупотребительным в высшем свете, в дипломатии и политике, во втором — за «всемирно-исторической» марк- систко-ленинской риторикой.
Тем, однако, ценнее для нас опыт первой Московии XVII века, где основные черты этих повторяющихся российских попыток обособиться от Европы, противопоставив себя «прочему христианскому миру», предстают перед нами во всей своей первозданности. Тут и примат «единственно верной» (и потому, как предполагалось, всесильной) идеи. И неколебимая уверенность, что именно по причине всесилия своей национальной идеи Россия несопоставимо превосходит еретическую и потому обреченную Европу. И самодержавная диктатура Государства власти, живущего «опричь» от страны. И крестьянское рабство. И безнадежная экономическая отсталость, не говоря уже о «злосчастной», по словам Юрия Крижанича, внешней политике.
Короче, без представления о московитском историческом провале было бы намного труднее понять и загадку николаевской России.
Глава вторая
Московия: век XVII fj Q ^ QJ ДОСТОвВСКОГО
Мы уже знаем, что К.Н. Леонтьев находил в Московии лишь «бесцветность и пустоту, бедность, неприготовленное^».2 В.О. Ключевский — «затмение вселенской идеи»,3 а П.Я. Чаадаев негодовал по поводу того, что «мы [в московский период своей истории] искали нравственных правил для своего воспитания у жалкой, всеми презираемой Византии».4 Знаем, что B.C. Соловьев обобщил все
К.Н.Леонтьев. Собр. соч. в 12тт., M., 1912,^5, с. 116.
В.О. Ключевский. Сочинения, M., 1957, т.з, с. 298.
П.Я. Чаадаев. Философические письма, Ардис, 1978, с. 18.
)
||И
83
Глава вторая Московия: векХУН Постулат Достоевского
эти жалобы в понятии московитского «особнячества».5 Помним, наконец, и то, что славянофилы придерживались прямо противоположной точки зрения. Для них Московия была, как сегодня, допустим, для М.В. Назарова или В.А. Найшуля Святой Русью, призванной послужить живым свидетельством того, что Россия сохранила недоступные Европе духовные сокровища — залог ее грядущего всемирно-истори- ческого первенства. С этого, естественно, и начинал свою апологию Московии Федор Михайлович Достоевский. «Допетровская Россия, — говорил он, — понимала, что несет в себе драгоценность, которой нет нигде больше, — православие, что она — хранительница Христовой истины, но уже истинной истины, настоящего Христова образа, затемнившегося во всех других верах и во всех других народах». Понимала и дорожила своим сокровищем. До такой степени дорожила, что «эта драгоценность, эта вечная присущая России и доставшаяся ей на хранение истина, по взгляду лучших тогдашних русских людей, как бы избавляла их совесть от обязанности всякого иного просвещения».6