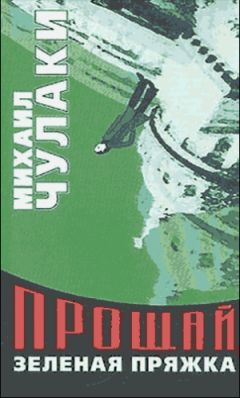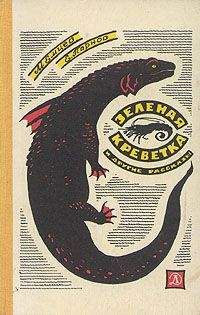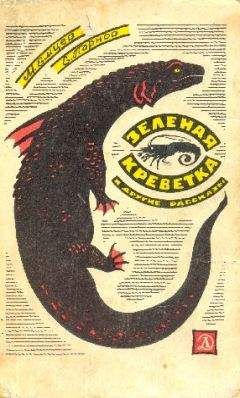Ну, давайте здесь посидим.
Давайте.
Вере как будто нравилось повторять какое-ни- будь его слово.
Они сели. Вера — на тот же стул, на котором несколько дней назад сидела ее мать.
Вы помните все, что с вами было, что вам казалось?
Помню.
Ну вот и рассказывайте все подробно.
Вера рассказывала очень старательно и про роботов, и про то, как их сортировали гипнозом, как казалось, что она в тюрьме, что ее травят, про успокоительные волны, на которых приплывали разные предметы и люди тоже, про маски, про хаос мыслей…
Виталий воспринимал услышанное как бы на нескольких уровнях сознания одновременно. Он ужасался вместе с Верой тому, что ей пришлось пережить, жалел, сочувствовал. Но и по-врачебному оценивал симптомы, размышлял, какой же все-таки диагноз вероятнее. Дело в том, что не существует ни одного симптома, присущего только шизофрении - вот у прогрессивного паралича, когда-то дававшего больше половины населения психиатрических клиник, такой математически точный симптом есть, а у шизофрении нет. (Кстати, если вспомнить вчерашние светские разговоры, прогрессивный паралич — еще один довод против Фрейда: если бы не было достоверно выяснено, что это осложнение сифилиса, не описаны типичные при нем изменения в мозгу, а копались бы только в психиатрических проявлениях, описывали бы разновидности бреда, чего бы ни напридумывал Фрейд! Ведь бред у бедных паралитиков всегда такой яркий, такая грандиозная обычно мания величия, выражаясь бытовым оборотом, при шизофрении тоже бывает мания величия, но немного другая, что, почему бы тому же Фрейду, не изобрести было вслед за Эдиповым комплексом какой-нибудь Цезарианский комплекс? Только потому, что нашли причину-спирохету, появились лекарства, убивающие эту спирохету, и теперь демонстративный прогрессивный паралитик — недостижимая мечта любой психиатрической кафедры, поколения студентов выросли и выучились, так и не увидев ни одного. То же должно рано или поздно произойти с шизофренией. А пока не произошло, в ход идет и Фрейд тоже, спекуляция и шарлатанство расцветает там, где слаба серьезная наука.) Да, безоговорочно, шизофренических симптомов нет, все дело в их сочетаниях, и сочетание у Веры не очень хорошее, профессор Белосельский обязательно скажет: «Картина слишком полиморфная!» Так неужели все-таки шизофрения?! Врачебное понимание только усиливало жалость к Вере, страх за нее! Неужели впереди новые обострения, неужели через несколько лет она будет нести ту же словесную окрошку, что несет непрерывно Ира Либих?! Но ведь и шизофрения не фатальна! Сколько случаев, когда больные с таким диагнозом прекрасно работают, никакого у них слабоумия! Об этом больше могли бы рассказать диспансерные врачи, здесь в больнице неизбежно скапливаются самые тяжелые случаи, по больнице судить нельзя — это все равно что работать в вытрезвителе, смотреть все время на своих клиентов и решить, наконец, что все вокруг сплошь алкоголики. Да-да, по одним больничным случаям судить нельзя, и все-таки лучше бы не шизофрения! Что против? То, что психотический эпизод был кратким, Вера быстро из него вышла. Очень яркие галлюцинации — все эти успокоительные волны, несущие на себе разные предметы, маски, и особенно уменьшенных людей — такие чаще бывают при инфекционных психозах, при органике. Но проклятый полиморфизм!..
И больше ничего, Виталий Сергеевич. Честное слово!
Зачем же больше. И так досталось.
Я знаете, что подумала?
Что?
Жалко, что я не актриса. Это очень тяжело, то, что случилось, но зато такой жизненный опыт! Больше нигде не наберешься. Только мне ни к чему. А если бы актриса, она бы потом лучше играла. Я и сама чувствую, что от всего этого стала умнее.
Только этого не хватало! Господи, когда сам больной чувствует, что изменился, это же так типично для шизофрении! Но ведь такое потрясение может и на самом деле прибавить опыта?!
Знаете что, Вера, вы только этого никому кроме меня не говорите, хорошо? Вас будет профессор смотреть, и ему не говорите! Он вас спросит, как вы сами чувствуете, изменились после болезни или нет? И вы скажете, что нет, не измени мись. Хорошо?
Хорошо. А почему?
Потому что я-то понимаю, что вы имеете в виду: от того, что вы увидели такое, что обычно никто не видит, у вас прибавилось жизненного опыта, правда?
—Ну конечно.
Я-то вас уже знаю и понимаю. А профессор может подумать другое: что от самой болезни изменился ваш характер. Поэтому не говорите.
Хорошо. А зачем смотреть профессору? Ведь я уже выздоровела.
Вот и дошли до самого трудного места в объяснении. Придется все-таки объяснить Вере, что дело серьезнее, чем она думает. И чуть-чуть обидно, что она уже торопится уйти, торопится расстаться. Ему-то показалось…
Понимаете, Вера, у вас закончился приступ болезни. Это очень хорошо. Но теперь нужно думать о будущем, нужно постараться, чтобы такой приступ не повторился. А для этого, возможно, придется еще продолжить лечение.
Вера не сразу ответила, было видно, ей нужно решиться, и она все же решилась:
Вы не подумайте, Виталий Сергеевич, я вам очень верю, и я рада, что вы меня лечите, но раз я стала здравой, здесь мне будет трудно. И страшно, когда начинают кричать! А нельзя, чтобы вы же меня продолжали лечить, только дома?
Виталий очень обрадовался такой просьбе, хотя и должен был отказать.
Нет, Вера, это такое лечение, которое возможно только в больнице. Ну а в новой палате вам будет полегче. Читайте, гуляйте. Я вам дам свободный выход, есть у нас такое новшество. В пределах больницы, но все-таки можно пойти в сад, посидеть одной, когда очень здесь надоест. Я понимаю, что здесь тяжело вам, но уж если лечиться, то лечиться.
Я же не возражаю, Виталий Сергеевич, я же понимаю, что вам лучше знать.
Ну и хорошо. Хотите, в честь начала жизни в новой палате книгу вам какую-нибудь раздобудем?
Хочу.
Давайте сходим в библиотеку.
Можно было какое-нибудь чтиво раздобыть и в отделении: по рукам среди больных вечно ходили какие-то немыслимые затрепанные детективы, обычно с оторванными обложками, но Виталий решил повести Веру в больничную библиотеку До сих пор он никогда не водил туда больных, да и никогда не видел там больных, ну и плевать! То есть гам существовал специальный фонд, откуда и брались затрепанные детективы, но за ними приходили культсестры — есть и такая должность — и брали книги оптом.
Они спустились по лестнице, прошли по нижнему коридору, стали подниматься по другой. Сверху послышалось щелканье замков, открывание двери — и сразу топот, свист, гармошка, — дождь кончился, и четвертое отделение выходило на прогулку. Вера прижалась к перилам, а вниз уже катила толпа. Впереди, как полагалось, два медбрата, но это мало упорядочивало шествие. Хриплый голос орал частушку:
Самолет летит,
Мотор работает,
А мой миленький сидит,
Картошку лопает!
Четвертое поравнялось с Виталием и Верой.
Привет, девочка! — прервал частушку гармонист. — Ты с какого? Приходи в гости, мы без вас соскучились.
И дальше:
А я не папина,
А я не мамина;
Я на улице росла,
Меня курица снесла!
Виталий стоял, заслоняя Веру, чтобы больные с четвертого не могли до нее дотронуться.
Толпа прошла. Сверкнула белым халатом замыкавшая шествие толстая санитарка.
Страшно мне рядом с ними, Виталий Сергеевич! А вам не страшно работать?
Да ну что вы. Просто несчастные люди.
Я ведь тоже лезла драться. А если такой здо- ровенный?
Это у «скорой» бывают иногда ситуации, когда вот такой бредовый — и с ружьем! А у нас — тишина и порядок.
«Тишина»!.. Нет, вы смелый. Я бы боялась.
За все время работы Виталий только один раз
подвергся нападению, и то чисто анекдотическому: толстущая органичка Зоя Рыбаева набросилась на него с объятиями. Но он не стал слишком упорно разубеждать Веру в своей смелости.
Вот мы и пришли, - Виталий пропустил Веру вперед, и они вошли в библиотеку.
Библиотека помещалась в низком сводчатом зале прямо над актовым залом больницы. Когда-то больница называлась в честь святителя Николая Чудотворца, и в теперешнем актовом зале находилась церковь — богослужения тоже входили в арсенал лечебных средств; от бокового придела отсекли верхнее пространство и устроили там библиотеку, на антресолях, так сказать. Виталий не удивился бы, если бы сквозь побелку проступил бы на потолке какой- нибудь святой. Близкий потолок давил, но переполненные книгами полки, яркие журналы на просторном столе — все это делало помещение вопреки архитектуре даже праздничным. Библиотекарша Анна Сергеевна восседала за столом, на котором по краям возвышались высочайшие стопы книг, грозя каждую секунду обвалиться и засыпать старушку. За последний год Анна Сергеевна сделала головокружительное восхождение во внутрибольничной иерархии; раньше на нее почти не обращали внимание — ну сидит какая-то старушка, записывает книги, что-то вроде отделенческой культсестры, а теперь она стала ходить в подругах самой Олимпиады Про- кофьевны! И все потому, что ее внучка вдруг в свои пятнадцать заняла третье место в Союзе в фигурном катании, стала спортивной и телезвездой! Виталию Анна Сергеевна была симпатичнее до своего внезапного восхождения: тогда она, довольная нечастым к себе вниманием, охотно рассказывала о довоенных временах в больнице, о блокаде, когда больные сами заготовляли топливо, разбирая баржи на Мойке; теперь же ни о чем, кроме фигурного катания, говорить стало невозможно. (Правда, у Виталия был крупный дефект — он не любил фигурного катания! Ну, одну-две пары, поднимающиеся до искусства, он смотрел, и даже с удовольствием, но часами подряд — нет, не мог! И пресловутая внучка — манерная самодовольная девица, насколько можно судить по телевизору.) С Анной Сергеевной, склоняясь над столом, беседовал Борис Борисович, врач с первого отделения, высокий худой старик с обвислыми щеками. Капитолина уверяла, что еще лет десять назад Борис Борисович был стройным красавцем, во что Виталию поверить удавалось с трудом, сейчас это был вылитый Киса Воробьянинов, хоть снимай в кино без грима. Виталий его не любил, потому что Ворис Борисович слишком живо интересовался частной жизнью своих коллег, впрочем, это довольно обычный этап развития у бывших красавцев: закончив собственное любовное поприще, они начинают близко к сердцу принимать успехи других в этой области. Так что неудачно совпало, что именно он оказался в библиотеке, когда Виталий пришел туда с Верой. У Виталия даже мелькнула мысль, что знай он, что здесь Борис Борисович, он бы отложил посещение. И тут же он рассердился на себя: ему нечего стыдиться и нечего скрывать!