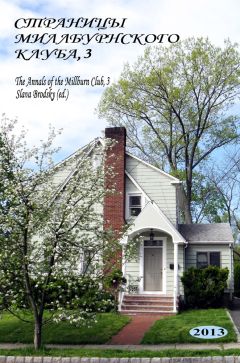Глава 2. “Full Front Position Is Strong”
И только тут до меня дошел весь ужас того, что я натворил. Я обещал поехать в Россию, явиться в незнакомый театр и, ничего не понимая в режиссуре, поставить новую, нигде не поставленную пьесу, которая не нравится никому, включая меня самого.
Были и другие проблемы. Я работал в нью-йоркской компании как project manager и совершенно не представлял, как за три недели отпуска смогу поставить спектакль в Екатеринбурге. «Лучше об этом не думать и отдаться на волю провидения», – решил я и приступил к подготовке.
Первым делом я взял в руки свое болезное творение и прочел его заново. Краткие замечания Димы, многозначительное молчание Рубанова, а главное, время сделали свое дело: я понял, что и как надо изменить. Потом, во время репетиций, я редактировал и кроил материал еще раз пять-шесть, но главное было сделано. Впервые в жизни у меня в руках была моя пьеса, которая мне нравилась. И нравится до сих пор.
Затем я купил гору книг по театральной режиссуре и прочел их от корки до корки. И узнал массу интересного. Например, что для актера “full front position is strong, and the profile position is less strong", что левая часть сцены “is stronger”, чем правая часть сцены. Почерпнул массу сведений по композиции, движению, ритму, продираясь сквозь леса ненужных глубокомысленностей (“The actor sitting when the remainder of the group is standing will receive emphasis by sharp contrast”), но, увы, магическую формулу успеха не обнаружил.
Впрочем, и не рассчитывал. Авторы учебников – Михаил Чехов, Frank Hauser, Harold Clurman, Michael Bloom – не способны дать больше, чем ты в состоянии взять.
Я разбил пьесу на мизансцены и изобразил в виде картинок. Часами смотрел я на картинки, пытаясь заставить персонажей двигаться по сцене, но они упрямились, не знали, куда идти, а то вдруг начинали суетиться, сталкиваясь и мешая друг другу.
«У тебя нет чувства сцены, поскольку ты на ней еще не был», – успокаивал я себя. «Оно появится, как только ты на нее заберешься...» А вдруг не появится! Вдруг я выйду на сцену, актеры будут ждать, а мне нечего будет сказать! Ведь я должен «вести актеров за собой». Но куда?.. «У тебя должно быть видение всей истории, как она разворачивается на сцене», – отвечал я сам себе. Но никакого видения у меня не было. И что такое – видение?
Были и другие сомнения: «А вдруг я испугаюсь актеров! И не смогу с ними работать!» Я гнал от себя эту мысль, но она не уходила. (Забавно, что мысль о том, что актеры могут взбунтоваться и отказаться работать со мной, меня тогда не посетила.)
Нельзя научиться управлять самолетом по учебнику. И я записался в театральную студию на Bank Street в downtown.
Наш преподаватель, заброшенный в Нью-Йорк москвич Алексей Бураго, оказался плохим педагогом, но талантливым режиссером. По его приказу худенький филиппинец сделал один шаг, по-военному приставил ногу, потом глубоко вздохнул, сделал еще один шаг – и превратился в безумца Германа из «Пиковой дамы». И даже полнейшая актерская никудышность филиппинца не помешала свершиться волшебству перевоплощения. Я мучил свой мозг, пытаясь понять, как это случилось, но тайна сего волшебства ускользала...
При столкновении со сценой мои домашние заготовки рассыпались, а сведения, почерпнутые из книг, казались бесполезной шелухой. Единственный зрительный образ, который меня преследовал, был такой: большой, играющий блестками разных цветов волшебный стеклянный шар падает и разбивается на тысячи осколков. Откуда этот шар возьмется и зачем он нужен – было неясно. Его должен привезти «американский гость»? Зачем? Чушь!
Тем временем, компания, в которой я работал, катастрофически теряла рынок, из шестидесяти человек осталось пять, и 27 октября 2005 года я ее покинул.
Провидение упорно толкало меня к обрыву.
Я решился и купил билет «Нью-Йорк – Екатеринбург» через Москву.
Приближался день отъезда, а вместе с ним – день встречи со злобным, непостижимым чудовищем, имя которому – актер. Червь сомнений грыз мою душу, самомнение трещало по швам, природный оптимизм таял и, как сказал Исаак Бабель, «предвестие истины коснулось меня».
В состоянии, близком к паническому, я отправился в Бруклин к старому знакомому (через Диму), профессиональному театральному режиссеру, зубру, отдавшему русской сцене больше 40 лет жизни – Абраму Львовичу Мадиевскому. Я сказал: «Абрам Львович, научите меня вашей профессии. Дима попросил меня поставить в Екатеринбурге пьесу своего приятеля Углова. Я через неделю улетаю». Зубр пожевал губами, глянул на свою красавицу-жену, театральную актрису Викторию Ивановну, и ничего не ответил. Повисла долгая пауза. Я снова заныл: «Абрам Львович, научите...» Мадиевский поднял голову, посмотрел на меня как на больного и сказал: «Саша, сдайте билет». Я спросил – почему? Он ответил: «Дима сошел с ума. Актеры съедят вас в первый день».
Сердце мое упало. Я понял, что надвигается катастрофа, но билет не сдал.
Глава 3. Екатеринбург
Самолет «Москва – Екатеринбург». Рядом со мной – разведенный американец, хиропрактор из Южной Каролины, летящий в шестой раз на встречу со своей возлюбленной в маленький промышленный город Миасс, что у черта на рогах. Я молчу, а он три часа без остановки разматывает передо мной нескладную семейную ленту. Я слушаю в пол-уха, думаю о том, что впереди, и вдруг в пошлой мыльной опере засветился бриллиант подлинной драмы. Хиропрактор вместе с возлюбленной едет знакомиться к ее маме, простой деревенской женщине. Они входят к ней в дом, хозяйка видит облезлого шестидесятилетнего иностранца, рядом свою тридцатичетырехлетнюю красавицу-дочь, измученную двумя неудачными браками, и начинает плакать.
25 января 2006 года я приземлился в Екатеринбурге. Температура – минус 26 градусов. Я угодил на жуткие крещенские морозы, невиданные в России многие десятилетия. Температура тридцать и ниже стояла больше месяца.
Меня встретил шофер из театра с табличкой «Александр Углов». И мы поехали в центр города, в гостиницу «Свердловск».
Весь город – снежный, местами ледяной каток. Ни асфальта, ни булыжника мостовых, ни пешеходных дорожек. Все скрыто под укатанным жестким снежным настом.
Моя первая ночь в гостинице. Одиннадцать вечера. Телефонный звонок в номер. Хрипловатый женский голос: «С девушкой отдохнуть не желаете?» Машинально отвечаю: «Спасибо, в другой раз». Через стенку слышу, как звонок раздается в соседнем номере, затем в следующем. И так – по всему этажу. Подобные звонки случались два-три раза в неделю.
Услышав мой рассказ, Рубанов сказал: «Ты представь, она выходит от потного жирного торговца фруктами и поднимается к тебе».
Фантазии театрального режиссера...
Утром, на следующий день после приезда, я встал и поехал трамваем в театр. Проезд стоил 7 рублей, то есть примерно 25 центов. Трамвай набит народом в шубах и полушубках. Кондуктор. Рядом с кабинкой водителя табло с бегущей строкой: «В США скончался известный актер, младший брат Шона Пенна, Крис Пенн… Анекдот: у Ниагарского водопада встречаются два туриста, англичанин и араб. – Моя любимая жена со мной, – сказал англичанин. – И моя любимая жена со мной, – ответил араб. – Остальных я в гостинице оставил».
Я понял, что жители Екатеринбурга в курсе мировых событий, вышел из трамвая и пошел к театру.
Массивное, многоэтажное, причудливой формы здание Свердловского академического театра драмы надвигалось на меня, подавляя своей каменной громадой. Это был настоящий репертуарный русский театр, монстр советского образца: семьдесят актеров в штате, директор, четыре замдиректора, режиссеры, художники, композитор, балетмейстер, фотографы, осветители, два зрительных зала, столярные цеха, пошивочные мастерские, гаражи, музыкальная студия, фотомастерская, столовая, бани. И пятнадцать пьес в репертуаре, начиная от «Каббалы святош» Булгакова и кончая «Идеальным мужем» Оскара Уайльда.
Я обошел парадный вход и зашел со служебного в квартиру при театре, где главный режиссер Володя Рубанов жил со своей подругой, актрисой того же театра.
Вова увидел меня и сказал: «Ну, здравствуй, Саня». Помолчал и добавил: «Давай обнимемся». И крепко обнял меня. Я чуть не заплакал. Мы не виделись 30 лет, никогда не дружили, сидели в общих компаниях пару раз – и все. И вот Володя Рубанов, один из самых талантливых режиссеров русского театра, обнимает меня, как старого друга. Почему? Может быть, потому, что я написал пьесу? И тем самым стал частью его цеха. А может быть, потому, что вспомнил молодость. Не знаю. Я тогда об этом не думал. В тот момент меня ударило другое. Вова назвал меня Саней. Саня – мое любимое имя (помните «Два капитана»?), но меня почти никто за последние тридцать лет так не называл. А Вова назвал. И я подумал – может быть, театр должен был быть моим домом, а я, прожив жизнь вне его, так и не понял этого, прошел мимо, и теперь, в разгаре заката, мне осталось только сожалеть о судьбе, которая не состоялась.