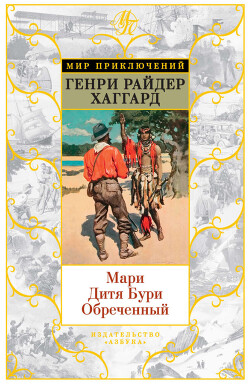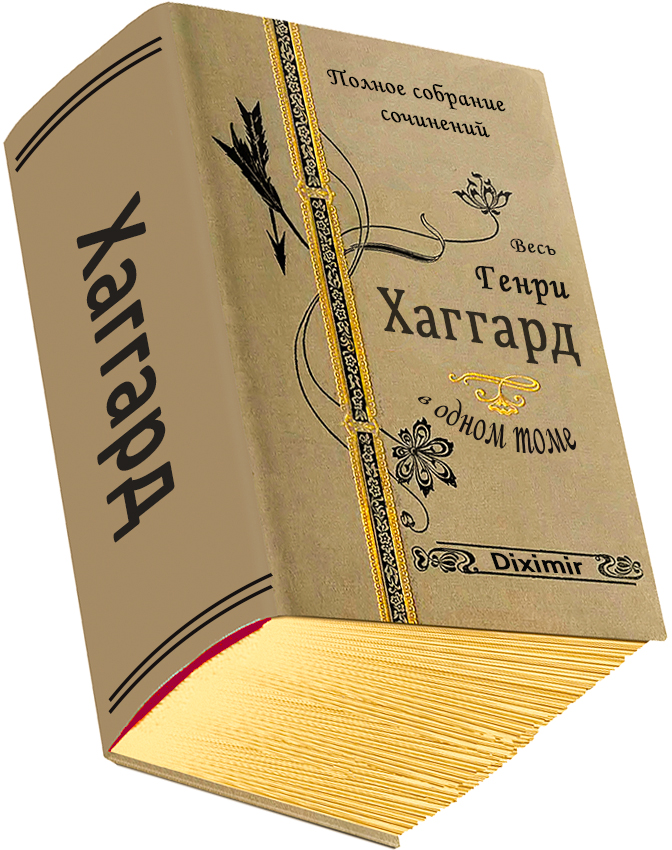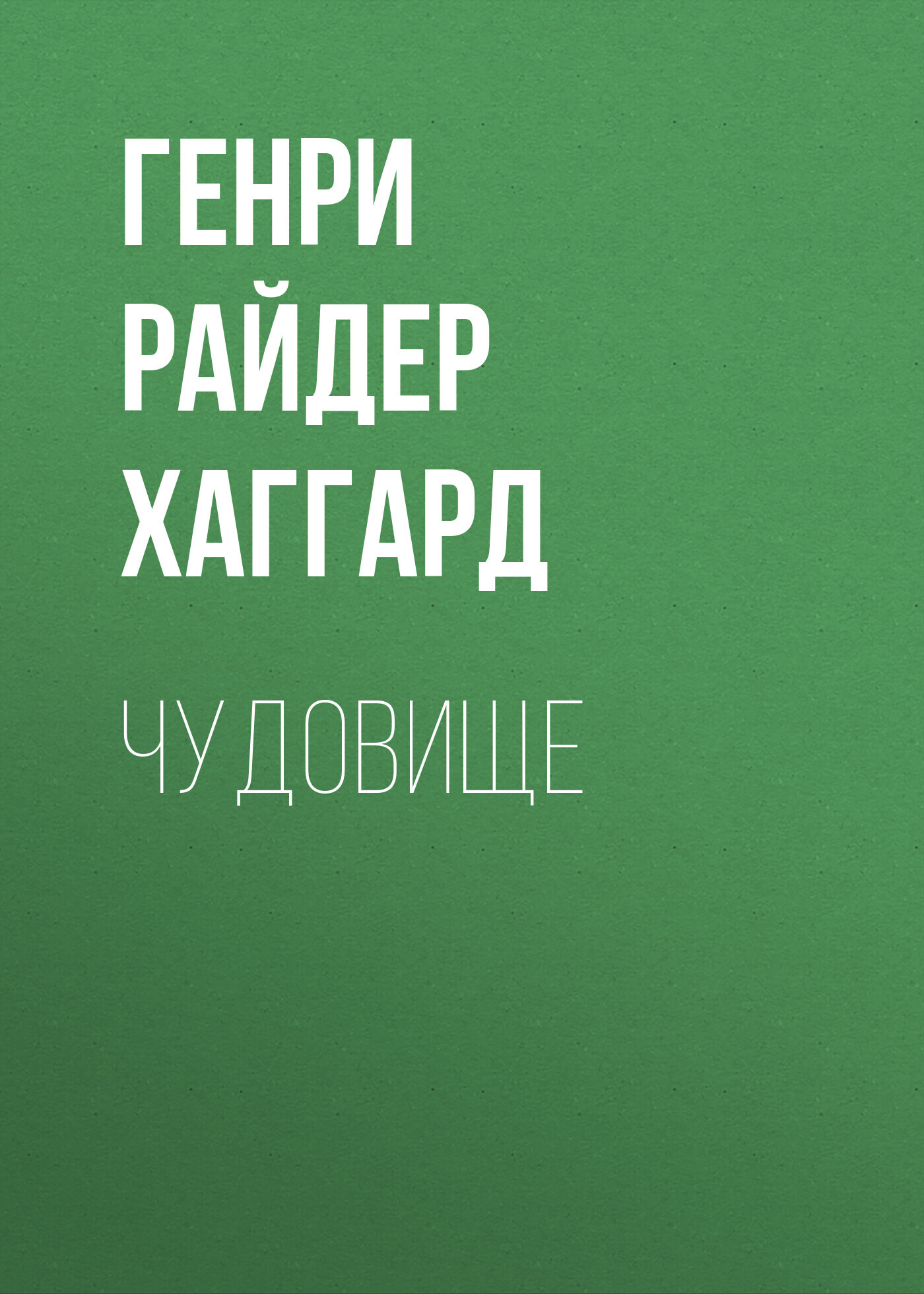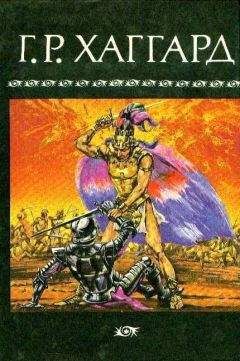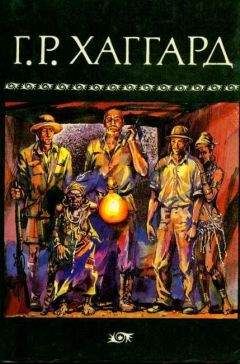Таким образом заключался реестр и заканчивалась история Марэ этой записью в Библии, ибо эта ветвь их семьи теперь усохла. Ее последнюю главу я расскажу дальше…
В моем официальном знакомстве с Мари Марэ не было ничего выдающегося. Я не спасал ее от нападения диких зверей и не вытаскивал из бушующей реки, как это бывает в романах. В действительности мы обменивались своими юными мыслями за небольшим, но чрезвычайно массивным столом, который некогда выполнял функции чурбана для рубки мяса. Даже и сейчас я вижу сотни рубцов, прорезавших поверхность этого стола, особенно в том месте, где обычно сидел я.
Однажды, через несколько лет после приезда моего отца в Кап [2], хеер Марэ появился возле нашего дома в поисках, помнится, пропавших быков. Тогда Марэ был худым бородатым мужчиной с довольно дикими, близко посаженными глазами и порывистыми, нервными жестами, ни в малейшей степени не похожим на бура, во всяком случае, именно таким я припоминаю его. Отец принял его вежливо и пригласил остаться пообедать, что он охотно сделал.
Они разговаривали по-французски, на языке, который хорошо знал мой отец, хотя и не употреблял его много лет. Мосье Марэ было приятно встретить человека, разговаривавшего по-французски и, хоть его вариант языка был двухсотлетней давности, а у моего отца в основном книжный, они болтали если не точно, то бойко.
В ходе беседы мосье Марэ, указав на меня, — маленького, со щетинистыми волосами и острым носом юнца, — спросил отца, не хочет ли он научить меня французскому языку. Тот ответил, что он иного и не хочет. «Хотя, — добавил он строго, — судя по моему собственному опыту изучения латыни и греческого, я сомневаюсь в его способностях к языкам».
Однако, договоренность была тут же достигнута: два дня в неделю, с ночевкой, я должен проводить в Марэсфонтейне и изучать французский у репетитора, которого мосье Марэ нанял, чтобы обучать свою собственную дочь этому языку и другим предметам. Я припоминаю, что отец согласился платить часть жалованья репетитору, что вполне соответствовало взглядам бережливых буров.
Таким образом, в ближайшее время я и отправился туда, причем весьма охотно, ибо на вельде между нашим постом и Марэсфонтейном встречалось много дроф, не говоря уже об антилопах, и мне было разрешено взять с собой ружье, которым уже в те далекие дни я прекрасно владел… Итак, в назначенный день я ехал верхом в Марэсфонтейн, сопровождаемый всадником, готтентотом Хансом, о котором я мог бы многое рассказать…
По дороге я развлекался отличной охотой, достигнув места, изобиловавшего дрофами и антилопами, одну из которых мне удалось подстрелить.
Вокруг Марэсфонтейна раскинулся персиковый сад, именно тогда засыпанный чудесными розовыми цветами и, когда я медленно проезжал по нему, поскольку не был уверен в правильности маршрута, вдруг передо мною появилось долговязое дитя, одетое в платье, точно соответствовавшее своим цветом персиковым цветам… Я как сейчас вижу ее темные волосы, ниспадающие на спину, и большие застенчивые глаза, смотрящие на меня из-под козырька натянутого на голову голландского кепи. Поистине, она казалась сплошными глазами, как птичка ржанка, во всяком случае, тогда я вряд ли заметил что-либо другое: только глаза…
Я остановил своего пони и глазел на нее, чувствуя себя весьма неловко и не зная, что сказать. Некоторое время и она так же смотрела на меня, по-видимому, немного встревоженная неожиданной встречей, а потом заговорила очень мягким и приятным голосом, но с некоторым напряжением.
— Вы маленький Аллан Квотермейн, который приехал учить вместе со мной французский? — спросила она по-голландски.
— Конечно, — ответил я на том же языке, — но почему это вы, мисс, называете меня маленький? Ведь я выше, чем вы, — добавил я негодующе, ибо, когда я был юным, мой недостаток роста всегда являлся для меня самым больным местом.
— Я не уверена в этом, — возразила она. — Однако, слезайте с лошади и мы померяемся ростом здесь, на этой стене.
И вот я спешился и, когда она удостоверилась, что на моих ботинках нет каблуков, — а я носил тогда сделанную из сыромятной кожи обувь, называемую бурами вельшоон, — она взяла грифельную доску, которая была при ней, — припоминаю даже, что доска была без рамки и просто представляла собой кусок кровельного материала, — и, положив ее плотно на мои щетинистые волосы, которые и тогда, как и теперь, торчали во все стороны, сделала остро отточенным карандашом глубокую отметку на мягком песчанике стены.
— Ну, вот, — сказала она, — все сделано правильно. Теперь, маленький Аллан, ваша очередь измерить меня.
И я измерил ее, но увы! Она оказалась выше меня на целых полдюйма.
— Вы стоите на цыпочках, — сказал я с досадой.
— Маленький Аллан, — ответила она, — стоять на цыпочках было бы ложью перед добрым Богом, а когда вы узнаете меня получше, вам станет ясно, что, хотя у меня и ужасный характер и множество других грехов, я никогда не лгу.
Думаю, что я выглядел тогда униженным и подавленным, потому что она продолжала в своей важной манере взрослого человека:
— Почему же вы сердитесь на то, что Бог сотворил меня более высокой? Тем более, что, как говорил мой отец, я на несколько месяцев старше вас. Впрочем, не перейти ли нам на «ты»? Гораздо удобней! Иди сюда, давай напишем наши имена возле этих отметок, так что через год или два ты сможешь увидеть, как перерос меня…
Затем она грифелем нацарапала «Мари» напротив своей отметки, очень глубоко, чтобы надпись могла сохраниться, как сказала она тогда; после чего я написал «Аллан» рядом со своей отметкой.
Увы! Лет двенадцать назад мне представился случай еще раз побывать в Марэсфонтейне… Дом уже давно был отстроен заново, но именно эта стена осталась. Я подъехал и осмотрел ее, там еще с трудом можно было рассмотреть имя Мари рядом с маленькой черточкой. Мое же имя исчезло, ибо за прошедшие годы песчаник осыпался. Остался только ее автограф, и я почувствовал себя даже еще хуже, чем когда рассматривал старую Библию на рыночной площади в Марицбурге.
Я помню, что тогда поспешно умчался оттуда, даже не остановившись, чтобы узнать, в чьи руки перешла эта ферма. Я скакал через персиковый сад, где деревья, возможно те же самые, а может быть, и другие, были в полном цвету, так как время года было то же, что и тогда, когда я впервые встретил Мари, и я не натянул поводья, пока не проскакал полдесятка миль.
Могу утверждать, что Мари всегда оставалась на полдюйма выше меня ростом, а вот насколько она была выше разумом и духом, сказать невозможно…
Когда мы покончили с нашим взаимным измерением, Мари собралась вести меня к дому, делая вид, что впервые заметила мои охотничьи трофеи.
— Это ты застрелил их всех, Аллан Квотермейн? — спросила она.
— Да, — гордо ответил я, — я убил их четырьмя выстрелами, а дрофы, между прочим, летели, а не сидели, и это больше, чем смогла бы сделать ты, хотя ты и выше меня ростом, мисс Мари…
— Не знаю, — ответила она задумчиво, — и я могу очень хорошо стрелять из ружья, потому что мой отец учил меня этому, но я никогда не стреляла бы в живые существа, если бы не вынуждена была к этому голодом, ибо, полагаю, что убивать — жестоко. Но, конечно, с мужчинами дело обстоит иначе, — поспешно добавила она, — и несомненно в один прекрасный день ты станешь великим охотником, Аллан Квотермейн, поскольку ты уже сейчас можешь так хорошо попадать в цель.
— Я надеюсь, что так и будет, — ответил я, краснея от ее похвалы, — ибо я люблю охотиться… И разве имеет значение то, что я убил нескольких диких животных, когда их так много вокруг? Ведь этих я подстрелил, чтобы угостить твоего отца и тебя!
— Тогда ступай и отдай их отцу. Он поблагодарит тебя, — и она повела меня через ворота в стене из песчаника во внутренний двор, где находились дворовые службы, конюшни, в которых содержались ночью ездовые лошади и лучший племенной скот, а в конце стоял длинный одноэтажный дом, построенный из камня и побеленный известкой; перед домом располагалась веранда.