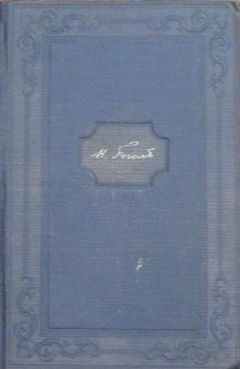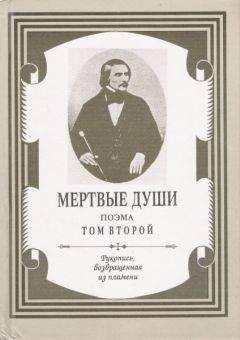Ознакомительная версия.
— Ну что же вы, господа?! Ну нельзя же так! — сердился Варвар Николаевич. — Уж коли сели, так извольте играть, а то даже неинтересно, право... Вот вы, Платон Михайлович, уже второй раз "зевнули", — сказал он, обратя внимание Платона на его промахи.
— Да с вами играть, Варвар Николаевич, что с бритвы мёд лизать, — лениво проговорил Платон и добавил: — Я, право, не знаю, как вы, господа, но мне надоело.
— Ну доиграйте хотя бы партию, — возмутился Вишнепокромов, — нельзя же вот так, посреди игры... Не демократ же вы какой—нибудь, право слово.
Партия была доиграна, но игра разладилась, и, к большому неудовольствию Варвара Николаевича, игроки, отсев от стола, перешли в диванную и взялись за трубки. Разговор, не прерывавшийся и во время игры, как—то сам собой зашёл об предстоящем Павлу Ивановичу путешествии. Из жилетного кармана извлечён был заветный списочек, и Павел Иванович, читая фамилии, в нём означенные, стал сызнова выспрашивать у своих собеседников о тех лицах, коим он был обречён нанести визит.
Нам с вами, уже знакомыми с главным направлением его вопросов, не стоит их тут вновь приводить, так как все они были сделаны касательно количества как живых, так и мёртвых душ у того или другого из помещиков, коих Чичикову предстояло вскорости посетить. Но вопросы эти ставились Павлом Ивановичем с известною осторожностью и маскировкою, достигавшеюся им через разговоры об эпидемиях и морах, постигающих регулярно среднерусские губернии. Собеседники же его, услыхав оглашенные им фамилии, оживились и многое сумели порассказать ему и дельного и смешного о лицах, служивших целью будущего его странствования. Имя полковника Кошкарёва вызвало у Василия Михайловича горький смех, а Вишнепокромов, тот весь—таки зашёлся от хохота, рассыпая вкруг себя трубочный пепел. Чичиков, присоединясь к общему веселию, объявил, что имел уже удовольствие побывать у Кошкарёва и тоже находит этого господина презабавным.
— Жаль его, — вступил в разговор Платон Михайлович, — он, бедняга, думает, что и впрямь одними лишь циркулярами да распоряжениями можно достичь до дела...
— Это как в том анекдоте, — выпуская облако табачного дыма, оживлённо проговорил Вишнепокромов. — Раз над артельщиками поставили мастера и спрашивают у некоего господина, через которого шло его назначение: "Хорош поведением, что ли?" — "Нет, нехорош!" — "Не пьёт, что ли?" — "Нет, пьяница". — "Умён?" — "Нет, не умён". — "Так, что же он?" — "Повелевать умеет," — и он расхохотался сам вперёд прочих.
— Это бы ещё хорошо, — вставил Василий Михайлович, — повелевать — это тоже наука. Он же превратил всё бог знает во что, носится по имению, точно курами оппетый. Вырядил своих лапотников в немецкие кафтаны... тьфу, — сплюнул он в сердцах, — и смех и грех только. Куды только родственники смотрят, ведь неровен час и угодит в жёлтый дом; а имение пойдет с молотка, я в этом уверен безо всякого сомнения. Вот вы, Павел Иванович, — обратился он к Чичикову, — замолвили бы перед его превосходительством слово, по старой дружбе, обратили бы его внимание, а не то ведь неизвестно кому всё достанется, жалко ведь.
На что Чичиков, сделавши сурьёзное лицо, долженствующее свидетельствовать об его озабоченности судьбою полоумного полковника Кошкарёва и его имения, подтвердил своё обязательное ходатайство перед его превосходительством генералом Бетрищевым по словам Василия Михайловича. Подобные же замечания и разбирательства сопутствовали и остальным означенным в списке фамилиям, коих помимо Кошкарёва набралось ещё четыре. Но мы не хотим забегать вперёд ни с самими именами, ни с подробностями, касающимися до них, дабы не портить читателю удовольствие от скорого с ними знакомства. Давайте, господа, не спеша, вместе с Павлом Ивановичем и его неизменными Селифаном и Петрушкой отправимся в путь и узрим сами, воочию те места и те лица, с которыми сведёт его предстоящая ему дорога. Но об этом немного после, так как наши герои уже прощаются друг с другом. И то дело, время уже позднее, и пора бы в постель на боковую. Тем паче, что выкуривший три трубки Варвар Николаевич, почувствовав усталость и некоторую сонливость, вероятно, случившуюся с ним посредством выпитого им кофия, собрался восвояси. На прощание он шумно облобызался с обоими Платоновыми, а Чичикова даже притянул к себе и, обняв, словно намереваясь задушить, влепил ему в бритую и пахнущую тем редким и любимым Павлом Ивановичем сортом мыла щёку такой "безе", что у Павла Ивановича ещё некоторое время горела кожа. И Чичиков как вспоминал об этом поцелуе, так досадливо морщился и сплёвывал.
— Обяжете, очень обяжете, господа, — погромыхивал, несмотря на сонливость, Вишнепокромов, — через два дня жду вас у себя в Чёрном, и чтобы без никаких, — сказал он, состроив строгие глаза.
— Приедем, — сказал Чичиков, и, вздохнувши посвободнее, когда коляска Варвар Николаевича скрылась за оградой, он вслед за братьями прошёл в дом.
Уже лёжа в постланной Петрушкой большой, под балдахином, кровати, Павел Иванович вернулся к своим расчётам об Вишнепокромове, обдумывая их то с одной, то с другой стороны, и уверился, что всё это может завязаться весьма хорошо. Судьба Тентетникова, которой вздумал он было известным образом распорядиться, мало занимала его. Наоборот, он даже ощутил прилив некоторой гордости, смешанной с удовольствием, от мысли, что можно по своему усмотрению располагать чужою судьбой. Поэтому Тентетников казался сейчас Чичикову маленьким, ничтожным и кругом обязанным ему человеком. "Ведь он совсем дурак, — вспомнил Чичиков свою давнюю об нём мысль, — совсем дурак..." И уже засыпая, на самом краю между сном и бодрствованием, успел подумать о том, чтобы подучить завтра Селифана объявить при братьях Платоновых, будто подаренная ему Тентетниковым коляска в ущербе, а кони в хвори или что—нибудь подобное, с тем, дабы ехать, воспользовавшись экипажем и лошадьми своих гостеприимных хозяев. И душа его, подстрекаемая сими приятными мыслями к расслаблению, опустилась в сон.
Но, несмотря на столь покойное отхождение ко сну, на столь благостное его начало, Павел Иванович проснулся поутру с чувством какого—то неопределённого беспокойства, навеянного, как нам думается, посетившим его под утро странным сновидением.
Всё мерещилась ему перед самым пробуждением непонятно откуда взявшаяся толстая баба, обтянутая синей запаской у пояса, будто бы бегущая вдогонку за его коляской. Баба тянула к нему полные руки, растопыривала короткие пальцы, точно намереваясь его схватить. Чичикову даже видны были её вздрагивающие при каждом шаге обтянутые синей материей груди, так явно она ему мерещилась. И отчего—то эта картина, которая могла бы вполне понравиться иному, тревожила Павла Ивановича, и нагонявшая его баба сеяла в душе его тоску. Чичиков подумал, что лучше бы ему проснуться, и открыл глаза. Баба тотчас же исчезла, и через какую—нибудь минуту Павел Иванович навряд ли мог рассказать о том, что, собственно, ему снилось, но вот ощущение беспокойства, посеянное в душе бесстыдным персонажем его сна, осталось.
Чичиков оглядел комнату, служившую ему опочивальней, и в свете солнечных лучей, пробивающихся сквозь зелень тянувшихся к окну липовых ветвей, она показалась ему более привлекательной, нежели вчера в полутьме, которую тщилась разогнать одинокая свеча. Даже строгая громадная кровать под балдахином, при взгляде на которую у Павла Ивановича помимо его воли вспыхнули вечером в голове слова: "почил на смертном одре", непонятно к кому и чему относившиеся, даже эта кровать глядела сегодня веселее. Подползши к её краю, Павел Иванович присел, спустивши с неё ноги, и, едва дотягиваясь ими до ночных туфель, принялся звать своего лакея Петрушку. Петрушка появился в дверях заспанный, с куриным пёрышком в волосах, и, разлепив свои большие губы, спросил:
— Одевать, что ль?
— Одевать, что ль? — передразнивая, прикрикнул на него Чичиков. — Одевать, что ль? — снова передразнил он его на иной манер. — Погляди только на себя, образина, каким являешься? Хорошо, что сертук успел напялить, — крикнул на него Чичиков, — розги по тебе плачут...
Сложив худые с крупными пальцами руки впереди пупа, Петрушка мялся с ноги на ногу, с обиженным и в то же время независимым видом поглядывая в окно, как бы говоря этой гримасой, что, дескать, вот так всегда и ни за что ему нагорает, но он уже привык и смирился со своей участью. Смерив полным презрения взглядом его длинную фигуру, Чичиков сказал:
— Выправь бритву, да помягче, барина брить будешь.
И сойдя с кровати, прошёл к большому висевшему на стене зеркалу в резной золочёной раме. Осмотр собственной физиогномии не вполне удовлетворил его. Он потёр тыльной стороной ладони у себя по щеке, проверяя на жёсткость вылезшую за ночь щетину, поковырял прыщик, расцветший подле носа, но наибольшую тревогу Павел Иванович ощутил, разглядывая собственную шевелюру. В последнее время ему стало казаться, что волос у него на голове стал будто бы не так густ, как прежде, и поэтому он по утрам перебирал пальцами каждую из своих прядей, укладывая их друг к дружке, перед тем как причесать. И на этот раз, разложив их в привычном уже порядке, он слегка прошёлся по волосам гребёнкой и, не найдя особых проплешин, несколько успокоился. Тут вернулся Петрушка, принеся с собой горячих полотенец, и Чичиков, прижав их к щекам, стал делать компресс, так способствующий более лёгкому сбриванию щетины. Но ему, видать, было не суждено сегодня насладиться приятным теплом, идущим от сырых полотенец, ибо Петрушка, словно бы взялся его уморить.
Ознакомительная версия.