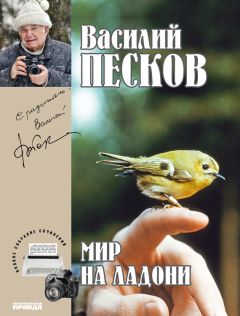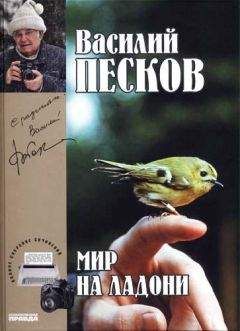— А верно треплют, что маленькая собачка до старости щенок.
— И то.
— Я вот в огород выйду,— продолжает крановщица Груша,— а с той улицы лезет ко мне с лаем вот такусенькая лохматая собачонка. Свой двор весь облаяла и ко мне успевает.
— Два двора караулить хочет!
— Собаки, они ужасно понимающие. Вот у меня сын переехал с год как на новую квартиру и недавно пришел. Так что вы думаете? Наш Руслан увидел его и от радости прыгал-прыгал, перевернулся и — хлоп на спину. Прямо ошалел. А мы думали, что он забыл его.
Разговор о собаках неожиданно обрывается потому, что слышна ругань. На пыльную дорогу выбегает собутыльник дяди Кости, а за ним и сам хозяин.
— С кем пьет, того и бьет,— говорит равнодушно Груша.
Цыкин оказывается легким на ногу, и дяде Косте ничего не остается, как высказать свое заветное пожелание убегающему гостю:
— Видал бы я таких в белых тапочках в гробу!
— Вместе же работают... на одном копре. И скандалят.
— А ты думаешь, они помнят? Спроси завтра обоих — ничего не помнят. Еще скажут: не ври, баба.
Дядя Костя возвращается к женщинам и то ли от водки, то ли от посрамления Ванюшки Цыкина мягчеет и начинает жаловаться на жену.
— Работаешь, работаешь, а придешь домой, и не имеешь права обняться с женским телом.
Над забором видна голова его жены и через дорогу летит ее зычный голос:
— А ты забыл, что этому женскому телу в получку принес одну десятку?
— И по сто приносил,— бормочет дядя Костя,— а все равно...
Внезапно его охватывает чувство неудобства и смущения и он уныло идет домой спать.
Все эти люди, как видела Софья, были простые и отзывчивые, веселые, добрые и незлопамятные. И хотя то, чем они жили, было чуждо и 'непонятно Софье, она оправдывала их потому, что ей казалось, что во всех этих людях было что-то впитано в себя от этих серых домов и картофельных огородов, от цепных собак и осевших в землю скамеек, от дороги, заросшей травой и тополиной порослью, от всех тех обитателей этой окраины, которые давно умерли... Ей думалось, что достаточно снести все эти дома и заборы и тогда и дядя Костя, и крановщица Груша, и бетонщик Быховский с матерью будут какими-то не такими. Но пока дома оставались и заборы оставались... И Софья сидела на вросшей в землю скамейке и смотрела, как текла вокруг нее непонятная ей жизнь.
Она и сама впитывала в себя то, что впитали до нее эти люди от серых домов и огородов, от заборов с колючей проволокой. И чужое пьяное горе стало ей казаться порой смешным и забавным.
Слава Быховский, напившись, хвастался на всю улицу: «В моих кудрях немало запуталось женщин!» Софья хохотала вместе со всеми над пьяным и до нее не доходила простая мысль о том, что ведь здесь стоит жена Быховского с глазами, полными слез.
Софья хотела познакомить Трубина с улицей, но тот был холоден и равнодушен к улице. За несколько лет жизни здесь он ни с кем не был по-настоящему знаком. Трубин не знал и не помнил в лицо никого из тех людей, с которыми Софья проводила свободные вечера и воскресенья. Ни дядя Костя, ни Слава Быховский, ни Груша — никто здесь не задел его память, его воображение.
Софье все же удалось уговорить Трубина пойти к дяде Косте поиграть в карты. Дядя Костя и его жена оказались матерщинниками. Непечатные слова сыпались в таком изобилии, что Трубин на какое-то время опешил. Ему было неудобно перед женой за то, что она слышит эти слова, неудобно перед хозяевами за то, что они произносят их, неудобно перед самим собой... Но на непечатные выражения никто, кроме него, не обращал внимания.
Софье даже чем-то нравилась виртуозная матерщина дяди Кости, она много хохотала в тот вечер.
Григорию ничего не оставалось, как объясниться с женой. Он начал издалека, с намеков. Поначалу намеки будто бы не произвели на нее никакого впечатления. Но он сознавал: ее спокойствие не есть еще ее верность ему. Достаточно напомнить ей кое-какие подробности и она перестанет упорствовать. Григорий же медлил, теплилась все же какая-то надежда.
Соня заметно нервничала. Делая вид, что намеки мужа всего лишь пустяки, что она воспринимает их как неуместную шутку, она тем не менее выдавала себя: ходила бесцельно по комнате, то смотрясь в зеркало, то беря со стола ножницы, и при этом не видела себя в зеркале и не Инала, что ей делать с ножницами. Иногда она думала: «Может, и хорошо, что Григорий наконец-то обо всем узнал сам? Так легче. Все равно когда-то — раньше или позже — это должно случиться. Ну вот и случилось».
Последнее время она жила в полном смятении. Если ее замужество было ошибкой, то надо же искать какое-то решение. Любит ли она его, Трубина? Да, любит. А он ее? Пожалуй, нет. Какое там! Наверняка — нет! Она как-то уверила себя в том, что если в семье разлад, то надо уж поступать так, чтобы при новом замужестве ее любовь была слабее любви мужа. Тогда не будет зависимости от него, не будет ощущаться его власти. Как часто женщины говорят друг другу: «Ты держи своего в руках. Чтобы не ты была его половиной, а он был твоей половиной». Вот если у мужа любовь посильнее, а у тебя послабее, тогда все образуется.
Ей казалось, что она нашла такого. А что дальше9 Он звал ее уехать, ничего не обещая. Она и сама понимала, что он не мог ей дать каких-то благ. Но он твердо обещал дать ей одно — любовь. И она верила ему. Он сам уходил от тяжелой жизни в поисках лучшей. Как тут не поверить?
И вот теперь Трубин все знает или обо всем догадывается. Его осторожные слова, одетые в оболочку тумана, не оставят ее в покое. Надеяться уже не на что.
— Ах, перестань! Ну чего ты об одном и том же?— сказала
она.
— Пойми, Соня. Я не такой, чтобы унижать тебя или себя. Давай без истерик. Если у нас с тобой жизнь не удалась, что же...
— У тебя все очень просто,— с раздражением ответила она.
Он почувствовал: она уже подготовила себя к тому, чтобы сказать правду. В окно он видел остановившиеся в небе облака, повисшие без движения листья. Даже воробей на коньке крыши, нахохлившись, сидел недвижимо.
«Все остановилось,— подумал он и удивился, что способен еще что-то подмечать из того, что происходило за окном.— Почему все остановилось? Хотя нет. Все это так, ненадолго. О чем я думаю? Надо ей сказать обо всем до конца».
И он стал сухим и бесстрастным тоном передавать ей то, что услышал о ее измене.
Она выслушала, ни разу не перебив его.
— Что ты на это скажешь?
— Ну, если уж она сама явилась к тебе...
Быстро взглянув на Софью, он заметил красные пятна у нее на лице.
— Ну, если уж так...— повторила она глухо.— Тогда знай... Да, мне кажется, что я люблю его. А то, что он меня любит, я не сомневаюсь ни на минуту. Поверь мне, он 'не из тех, о которых ты думаешь. Он такой же честный, как и ты. Такой же принципиальный. Ты не подумай, что наши с ним отношения зашли далеко.
— Ну, знаешь ли, меня не интересуют подобные уточнения.
— Все-таки надо объясниться и понять, что произошло между нами. Почему я разлюбила тебя и полюбила его?
— Что ты в нем нашла? Чем таким он тебя...— Трубин подыскивал слово.
— Вся разница между вами в том, что он меня любит, а ты... Ну, что тебе говорить? Мы уже обо всем переговорили.
— Да, обо всем,— согласился Григорий. — Тебе решать. Дальше так продолжаться не может. Если его любишь, то с ним тебе и жить.
— Он зовет меня. Он говорит, что уедем к его родителям, а потом видно будет.
— Ну вот и поезжай.
Она не ответила, смотрела, не отрываясь, в окно. Не то ждала, чего он еще скажет, не то своим молчанием выражала согласие на его последние слова. Все вокруг было зыбким и неустойчивым. Она уже разучилась определять и понимать, где для нее плохо, а где — хорошо. Приходила утрами в производственный отдел и все думала, перебирая синие и белые бланки, забывая о том, где она и что ей надо делать. С трудом сбрасывала с себя оцепенение и бралась за телефонную трубку: «Пора потребовать документы с «Дальсталь- конструкции». Но тут же наваливалось на нее такое безразличие ко всему, что она снова задумывалась, неподвижно глядя в одну точку. Вчера начальник отдела сделал ей замечание: напутала с расценками за бетонирование...
Григорий чувствовал всю серьезность происходящего, но в глубине души что-то его еще обнадеживало, будто где-то неприметная ниточка тянула за собой все то давнишнее, все то хорошее, что бы- .ло у них с Софьей.
Она вдруг закрыла лицо ладонями и заплакала. Григорий не сразу к ней подошел — у него не было жалости к жене. Но он все же переборол себя, налил ей воды и попросил, чтобы она успокоилась.
— Возможно, нам обоим будет лучше, если ты уедешь,— сказал он, как мог, более мягко.
— Послушай, Гриша. Можно все еще исправить. Все от тебя зависит.
— Нет уж. Я с ним... с этим твоим... поговорю завтра. Скажу, что с моей стороны вам помех не будет.
— Зачем ты так?— прошептала она.
На миг в груди Григория ворохнулась к ней жалость: «Может, забыть все? Жить, как жили. Ну, уступить ей, вести себя, как она хочет. Заботливей быть, что ли. А?» Но как подумал о ее встречах с ним... с тем самым... «Это она тут такая — ахи да вздохи, а с ним какая была? Кто ответит: какая с ним была? Что обо мне ему говорила?»