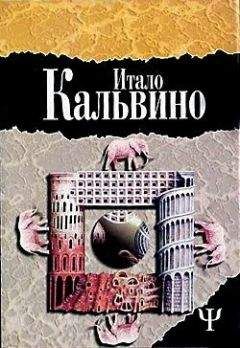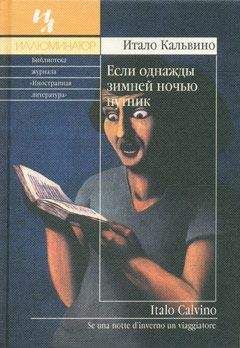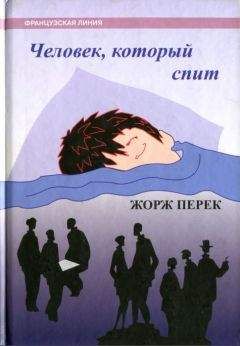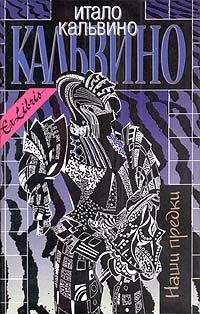интересоваться не станет. Слежка ведется с необычного ракурса – изнутри. Таким образом,
на протяжении всего процесса нашего взаимодействия твой пол и возраст остаются для меня
неизвестными величинами. Это принципиальный момент, и он совершенно оправдывает
циничность и даже жестокость методов, которую можно приписать нашему профсоюзу.
Изнутри мы также видим все, окружающее вас.
Твой возраст меня не волнует, да будь ты хоть ребенком; подопечный может быть и
женщиной, и мужчиной – это не играет никакой роли. Полагаю, что принципы тургесценции
были введены для сохранения абсолютной объективности восприятия. Но это никому не
известно, мы можем только догадываться, и к тому же законы тургоры (как и прочие) были
установлены так давно, что синоним им – вечность. Итак, видя тебя изнутри со всеми твоими
генетическими пожитками, я уже не могу делать скидок на женскую слабость или, скажем,
на детскую беззащитность – ответственность устанавливается согласно внутреннему
состоянию, а не вашим социально-этическим и, мимоходом замечу, примитивным
7
ценностям. Поэтому, когда умирает ребенок, заболевает раком женщина или лишается
конечности мужчина в расцвете сил, это не производит на нас подавляющего впечатления –
мы обозреваем происходящее в ином контексте.
Сговоримся на том, что твоя внешность и в целом телесность для меня – неинтересная
загадка: я вовсе не обхожу эту тему, просто сразу исключаю моменты, не влияющие на ход
истории. Что же касается наблюдения изнутри – на данном этапе я вынужден сделать
неутешительные выводы и принять меры. Это моя работа. Сейчас твое положение трудно
назвать даже жалким, такое убогое существование трудно представить, а описывать крайне
неудобно. Но все происходящее в данный момент запрограммировано помимо твоей воли.
Спорить и сопротивляться бессмысленно. Сейчас именно ты бесцельно переводишь взгляд с
бармена на другого посетителя, а потом угадываешь собственное отражение в окне
кафетерия.
За стеклом, украшенным нелепыми новогодними лампочками, все та же муторная вьюга,
машин и людей не видно. Ты расплачиваешься по счету, поправляешь мокрый, оттаявший
шарф, натягиваешься шапку пониже и выходишь на улицу. Движения медленные,
скованные. Ты переходишь на противоположную сторону улицы, то и дело увязая в
новоиспеченных сугробах. Ковыляешь к ближайшей троллейбусной остановке, чтобы ехать
домой. Но ждать приходится, наверное, час. Холод пробрал насквозь, – бессмысленны
попытки сопротивляться морозу и дрожи, все тщетно. Коленные чашечки дергаются, словно
недобитые воробьи. А стучащие зубы задают им ритм.
Мимо грузно тянется снегоуборочная машина, и к твоим ногам отлетают серые, гнилые
ошметки снега, ног, впрочем, ты не чувствуешь, только большие пальцы изредка
напоминают о себе тусклым зудом. Тьма отступает, наконец-то появляется троллейбус, часто
в нерешительности тормозит, скулит натужно. Опять в одиночестве населяешь салон, и на
вспоротом, изувеченном диванчике тебя настигает болезненная дремота. Очень много сил
потрачено на борьбу с холодом. Ты все-таки засыпаешь.
Просыпаешься на конечной остановке, в часе езды от собственного дома. Водитель
грубо трясет тебя, выпрыгивает из троллейбуса и исчезает в маленьком, станционном
домике. Ты в полном одиночестве. Скорее всего, троллейбус поедет обратно, но когда –
неизвестно. Ты выбираешься на воздух, по-детски жмуришь глаза: вокруг много света,
солнце где-то близко, но зимой сквозь толщу облаков его редко заметишь. Снег валить
перестал. Незнакомый, индустриальный район. Прости за мою болтливость, я снова тебя
перебью. Ты помимо своей воли находишься в нужном месте, в нужное время, только вот не
соображаешь ни черта, но это поправимо, это мне только на руку.
Тебе нужно отлить. Что ж теперь поделаешь? Раз хочешь писать, продолжай хотеть и
дальше, тут я тебе точно не помощник. Я в последнее время вообще распустился, нигде тебе
на встречу не иду, даже в мелочах подсоблять не желаю, на меня, между прочим, уже доносы
пишут, от дел отстранить пытаются. Но это бумажная волокита на недели: пока примут
окончательное решение, все свои планы я уже приведу в исполнение. Далеко ли идущие
планы? Не знаю. Я хоть и обладаю большей властью, чем ты, но вопросы задавать не
перестаю и прекрасно знаю – ответы выискивать придется мне же. Искать не брошу. Так что
даже не рассчитывай в ближайшее время мочиться нормально, по-житейски.
Оглядываешься по сторонам в поисках другого троллейбуса или человека, у которого
можно уточнить время. Часы на остановке показывают 6.15, и это, естественно, наглая ложь.
Зачем тебе сейчас знать, который час, ты объяснить не можешь и не пытаешься. Возможно,
подобная информация служит каким-никаким ориентиром в совершенно незнакомом районе.
Вокруг никого нет. Ты идешь в сторону омертвевшего, троллейбусного парка. Очень нужно
помочиться, уже невмоготу, но тебе подавай укромное место. Ты пролезаешь сквозь дыру в
ограждении, надеясь спрятаться за одной из машин.
Тебе заранее стыдно. Ты представляешь, каким столбом поднимется пар от мочи, как
кто-нибудь прибежит и станет отчитывать, как моча окаменеет на троллейбусной шине ярко-
8
желтыми кристалликами и провисит здесь до самой оттепели. К холоду, вони изо рта и
судорогам теперь прибавилась боль в мочевом пузыре. Но через мгновение все это
забудется. Обогнув машину, ты вздрагиваешь от неожиданности. От страха. Сердце, екнув,
начинает биться очень сильно и не угомонится до тех пор, пока ты не покинешь это место…
Сейчас. Прямо перед тобой на земле лежит человек. Его замело снегом. Это труп.
Мужчина. Не бомж, одет хорошо, дорогая, на первый взгляд, обувь. Он полу забит под
троллейбус. На животе – багровые, припорошенные махровым снегом пятна. От пережитого
шока голова начинает работать лучше, и по адреналиновым законам делается чуть теплее.
Осторожно, медленно, испуганно опускаешься перед человеком на колени, несколько раз
его толкаешь. Он все равно мертв. Растерянно переводишь взгляд на лежащий около тела
предмет, тоже засыпанный снегом, – кажется, это какая-то статуэтка, но не трогать же ее.
Опять смотришь на труп. Ты изо всех сил пытаешься что-нибудь придумать. Скорее всего, в
подобных обстоятельствах зовут кого-то на помощь. Но без сомнения для помощи уже
слишком поздно. Надо вызвать кого-то официального – это решение приходит следующим.
Мысли переваливаются натужно, ведь ты очень редко самостоятельно принимаешь решения,
тебе почти никогда не приходится думать о других и еще реже – о мертвых.
Вдруг в голове что-то щелкает, твое мышление как будто настраивается на новую волну,
и через мгновение ты впадаешь в какое-то раскованное состояние. Чуть ли не вслух ты
спрашиваешь: «А какая от этого польза мне?». Но это не мысль, не слова изреченные, это
именно состояние, в котором тебе только что случилось оказаться. И, действительно, какая
же тебе польза от мертвого человека? Еще один щелчок – почти приятный – и ты бесстыдно
шаришь по его карманам. Находишь носовой платок, несвежий, и портмоне, кожаное,
извлекаешь из него все деньги, вот какая-то карточка, похожая на кредитную, и ее тоже
присваиваешь – кошелек запихнут обратно. Затем поспешно встаешь.
И бегом на остановку.
- Куда-то едем? – грубо спрашивает уже знакомый водитель и забирается в кабину.
От последних впечатлений, от преступления, тобой содеянного, и содействия, тобой не
оказанного, стало намного теплее.
Опять повалил снег, с утроенной силой.
- Да, - отвечаешь ты, взбодрившись.
Троллейбус взревел и сдох. Из-за снежных завалов движение полностью остановилось, а
стоит машине притормозить, как ее тут же с потрохами сжирает вьюга. Водитель советует
тебе отныне полагаться на собственные силы или переждать непогоду в ближайшем
подъезде. Твой вид не вселяет в него доверия, возможно, поэтому он и не советует что-
нибудь приемлемое. Ты неохотно вылезаешь из теплого салона, проваливаешься по колено в
снег и сразу вспоминаешь о своем распухшем мочевом пузыре. До дома несколько
кварталов, а облегчиться в центре города намного сложнее, чем на окраине. Ты вспоминаешь
также об украденных деньгах – можно поймать машину. Но движение парализовано.
Остается только самостоятельно добираться до дома. И ты выползаешь, загребая