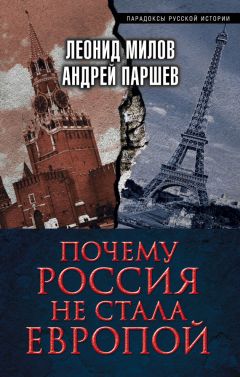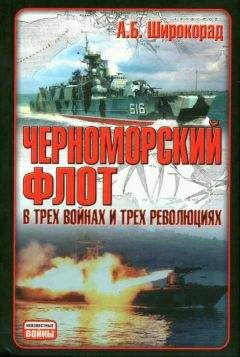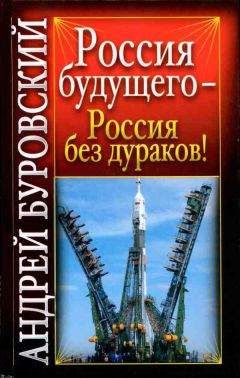Костанжогло говорит:
«Думают, как просветить мужика! Да ты сделай его прежде богатым да хорошим хозяином, а там он сам выучится.
...Если плотник хорошо владеет топором, я два часа готов перед ним простоять: так веселит меня работа... И не потому, что растут деньги, — деньги деньгами, — но потому, что все это дело рук твоих; потому что видишь, как ты всему причина, ты творец всего, и от тебя, как от како- го-нибудь мага, сыплется изобилье и добро...»
Ну, как сегодня пройти мимо Гоголя, этого мыслите- ля-провидца, если у него чуть не каждая сцена — это Россия сегодня. Что ни чиновник, то Кошкарев. Ну, скажите мне, у кого из нынешних писателей можно найти столь глубокое и точное описание характера русского человека, его доброты и подлости, его таланта и тупости, его пьяной удали и беспросветной лени, его жертвенности и равнодушия!
Вернемся, однако, к дням сегодняшним.
Уверен, что без осмысления духовного, экономического и политического наследия, определившего столь тяжкую судьбу России, ее боль, грехи и великие прозрения, невозможно понять ни истоки социальной болезни России, ни сегодняшние причуды жизни, так или иначе связанные с новым социальным выбором страны.
От прошлого ложью не скроешься... Мертвые все равно догонят живых и жестко потребуют нравственного покаяния. Да, от прошлого не спрячешься, от самих себя — тоже. Нам не обойтись без нового прочтения многих исторических явлений и событий, многотрудных и противоречивых процессов, имена которым — революция, контрреволюция и эволюция, свобода и анархия, власть и насилие, совесть и равнодушие. Их разнообразные переплетения с особой остротой обнажают извечные проблемы общественного бытия: соотношение целей и средств; принуждение и убеждение; разрушение и созидание; идеалы и действительность; сравнительная цена революций и эволюции; взаимоотношения народа и власти; иерархия классовой и общечеловеческой ценностной мотивации.
Для себя я считаю каждую страницу о падении и разложении человека в ленинско-сталинскую эпоху моим письмом к потомкам, которых, наверное, будут терзать сомнения, ибо то, что здесь дальше написано, быть не могло в обществе людей. Мне и самому не хочется в это верить, но, увы, все это было.
Исповедь — тяжкое дело, если говорить и писать правду. И неблагодарное. Особенно, когда пишешь о бедах России и ее народов с чувством любви и душевной тревоги за будущее детей своей страны, о России, необъяснимо странной, вековечно страдающей, мучительно мятущейся, ищущей свое счастье в этом мире.
Глава первая
О НЕМЫСЛИМОМ
Зачем раздражать народ, вспоминать то, что уже прошло? Прошло? Что прошло? Разве может пройти то, чего мы не только не пытались искоренять и лечить, но то, что боимся назвать и по имени... Оно и не проходит, и не пройдет никогда, и не может пройти, пока мы не признаем себя больными... А этого-то мы и не делаем.
Лев Толстой
М ы больны. Страшные слова русского гения. Безысходные. Мы, в России, не хотим понять и признать, что нравственный долг перед жертвами палаческой власти Ульянова (Ленина) и Джугашвили (Сталина) мучительно тяжел, но вечен. Это наш долг, каждого из нас. И не будет прощения ни нам, ни нашим потомкам за содеянные злодеяния, если мы не очистим правдой нашу израненную память, не откроем наши души для покаяния.
Неужто и впрямь для русского человека рабом стать легче, чем свободным?
Тому, о чем я собираюсь писать, названия нет. Невообразимые преступления, совершенные правителями страны под громкие аплодисменты толпы, неистово мечутся в душе. Хочется верить, что хотя бы в уголочках сознания людей еще живет придушенная совесть, противоречивая и с трудом открывающая глаза, еще коллективизированная и так трудно расстающаяся с рабством.
...Дети-заложники. Закон о расстрелах детей с двенадцати лет, а на практике — и грудных. Система концентрационных лагерей, населенных миллионами человеческих тел. Расстрелы без суда и следствия. Социалистические соревнования в ОГПУ — НКВД — КГБ по «истреблению врагов народа». Приговоры по телеграфу. «Великие стройки коммунизма» на костях заключенных. Каторга. Пыточные в Лефортове и на Лубянке, официально введенные по решению безумного руководства страны. Массовые репрессии как средство удержания власти. Бесконечные войны — гражданская, мировая и «холодная». Десятки малых войн — с Финляндией, Японией, Китаем, Польшей, Украиной, в Закавказье и Средней Азии, с Венгрией, Чехословакией, Афганистаном, а теперь в Чечне. Всеобщее обнищание и позорная отсталость. Моральная деградация и бесконечная усталость человека.
Через организованную Лениным гражданскую войну уничтожена армия России, лучшие умы государства высланы
за рубеж пароходами, которые не без грустного юмора назвали «философскими», через возвращение в деревню крепостного права ликвидировано крестьянство, через индустриализацию создана безропотная масса полуголодных обитателей коммунальных квартир с вылущенной моралью, поскольку, согласно бредням Ленина, мораль является буржуазным предрассудком, если не служит делу революции. Разграбленная церковь. Вурдалаки топили в прорубях священников, делали из них ледяные столбы — так, для забавы. Многие великие книги сожжены. Списки по сожжению утверждала сама Крупская, которая приходилась женой Ленину. Последний унаследовал российскую империю, убив на всякий случай царя Николая и всех его домочадцев, включая детей. Заявив о создании «подлинной демократии», которую большевики назвали социалистической, они первым делом уничтожили все партии — крестьянские, социалистические, буржуазные, демократические, центристские, равно как и всю оппозиционную печать.
Вспоминаю старую притчу: пессимисты все время ищут в мусоре времени трагедию, а оптимисты — комедию. Нет, не для нас эта притча. Нет! Нашему народу, оказавшемуся в глубокой пропасти, еще долго придется выползать на свет Божий, чтобы земная твердь смилостивилась над нами, а покаяние за греховную нетерпимость усмирило нас и принесло успокоение в наши дуроломно-мятежные души. Не собираюсь углубляться и в горькую тему: «Кто виноват?». Для меня этот вопрос после прочтения тысяч и тысяч документов по убиению людей в принципе раздет до его страшной прокаженной наготы.
Не надо прятать голову в песок — это мы беспощадно, позабыв о чести и совести, ожесточенно боремся, не жалея ни желчи, ни чернил, ни ярлыков, ни оскорблений, не страшась ни Бога, ни черта, лишь бы растоптать ближнего, размазать его по земле, как грязь, а еще лучше — убить. Это мы травили и расстреливали себе подобных, доносили на соседей и сослуживцев, разоблачали идеологических «нечестивцев» на партийных и прочих собраниях, в газетах и журналах, в фильмах и на подмостках театров. И разве не нас ставили на колени на разных собраниях для клятв верности и раскаяния, что называлось критикой и самокритикой, то есть всеобщим и организованным доносительством.
Виноваты сами! Но ощущаю вокруг себя ошеломляющее равнодушие к тому, что произошло в России. Возможно, не- сознанный стыд за сотворенное и страх перед ответственностью за содеянное понуждают людей сооружать из себя чучела презренной гордыни. Одним словом, тяжелые и мрачные сумерки окутали Россию на многие десятилетия.
Слава богу, еще живы многие мои соратники-современ- ники, которые швырнули свое сердце и душу на гранитную стену деспотии. И сказали они тем молодым, что пошли за ними: дышите свободой и поклянитесь именем уничтоженных нами же предков, что свобода — это навсегда, не творите себе кумиров, не лезьте под грязные сапоги сталинокра- тии.
Но, увы, оскудели мы совестью. Уже нет с нами великих провозвестников свободы, мужества и честности — Александра Адамовича, Виктора Астафьева, Артема Боровика, Дмитрия Волкогонова, Виталия Гольданского, Олега Ефремова, Льва Копелева, Дмитрия Лихачева, Юрия Никулина, Булата Окуджавы, Льва Разгона, Владимира Савельева, Андрея Сахарова, Иннокентия Смоктуновского, Анатолия Собчака, Галины Старовойтовой, Святослава Федорова, Станислава Шаталина, Юрия Щекочихина, Сергея Юшенкова.
Святые имена!
И знали ли эти романтики — дети XX съезда 1956 года и Мартовско-апрельской демократической революции 1985 года, что не так уж малое число их бывших сподвижников быстрехонько рассядутся за кабинетными столами и будут всеми ногтями и когтями цепляться за вожделенные кресла, дабы не сползти с них под хмурым взглядом Вечного Начальника.
Вспоминая перестроечные дела и события, я спрашиваю себя: зачем тебе все это было нужно? Ты член Политбюро, секретарь ЦК, власти — хоть отбавляй, всюду красуются твои портреты, их даже носят по улицам и площадям во время праздников. Я даже не помню, что чувствовал, когда с трибуны Мавзолея смотрел на колонны людей, на лозунги и плакаты, зовущие на труд и подвиги во имя «родной партии» и ее ленинского Политбюро. Сказать, что торжествовал или радовался, пожалуй, не могу. Но и резкого нравственного отторжения не было. Однако смутные чувства двусмысленности, неправды бродили по уголкам сознания. Любоваться с трибуны на собственный портрет было как-то неловко, но то, что на тебя смотрят тысячи людей, предположительно, добрыми глазами, вызывало чувства горделивого удовлетворения. Слаб человек. Кстати, я не один раз пытался как-то сформулировать свои трибунные чувства, но ничего путного, хотя бы для себя, не получалось.