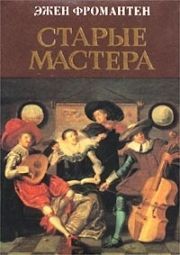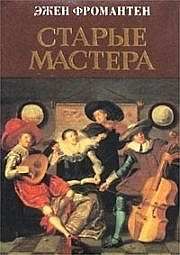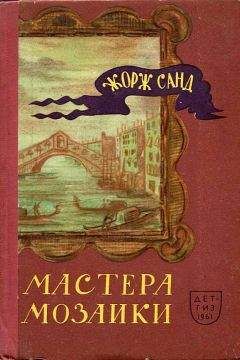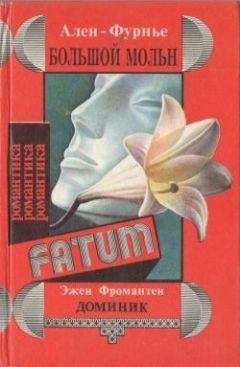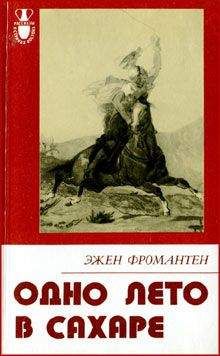То, что Жан-Жак Руссо, Бернарден де Сен-Пьер, Шатобриан, Сенанкур, наши первые мастера пейзажа в литературе, обнимали единым взглядом и выражали в сжатых формулах, должно было показаться неполным конспектом и очень ограниченным обзором в момент, когда литература стала чисто описательной. Точно так же и потребности живописи, непоседливой, аналитической и склонной к буквальной имитации, оказались стеснены чужеродным методом и стилем. Глаз стал более любознательным и изощренным, восприимчивость - хотя не более живой, но более нервной; рисунок - пытливым и доскональным; наблюдения умножились; природа, изучаемая вплотную, закишела деталями, эпизодами, эффектами, оттенками. У нее- стали выведывать тысячи тайн, прежде хранимых ею про себя, потому ли, что тогда не умели или не хотели настойчиво расспрашивать ее. Нужен был соответствующий язык, чтобы выразить множество новых ощущений; и Руссо почти единолично создал словарь, которым мы пользуемся и сегодня. В его эскизах, набросках и законченных произведениях вы найдете попытки, усилия, счастливые или неудачные открытия, превосходные неологизмы и рискованные обороты, какими этот глубокий искатель формул стремился обогатить старый язык и старую грамматику живописцев. Возьмите одну из лучших картин Руссо, поместите ее рядом с картиной - такого же рода и значения - Рейсдаля, Хоббемы или Вейнантса, и вы поразитесь их различием почти так же, как если бы вы, прочтя страницу из «Исповеди» или «Обермана», сразу же прочли бы страничку какого-нибудь современного описательного романа. Здесь те же усилия, то же расширение кругозора, тот же результат. Выражения более характерны, наблюдательность более изощрена, палитра бесконечно богаче, цвет выразительнее, даже самое построение более тщательно. Все кажется лучше прочувствованным, более продуманным, более научно обоснованным и рассчитанным. Какой-нибудь голландец разинул бы рот перед такой добросовестностью и был бы ошеломлен подобной способностью к анализу. И все же разве лучше, вдохновеннее произведения Руссо? Разве они более жизненны? Когда Руссо пишет «Равнину, покрытую инеем», ближе ли он к правде, чем Остаде и ван де Вельде в их «Конькобежцах»? Когда Руссо пишет «Ловлю форели», больше ли в ней серьезности, влаги и тени, чем в спящих водах и мрачных водопадах Рейсдаля?
Тысячу раз описывали в путевых записках, романах и поэмах волны озера, бьющиеся о песок пустынного берега, ночь, когда восходит луна, а вдали поет соловей. Не эту ли картину запечатлел раз навсегда Сенанкур в немногих возвышенных, коротких и пламенных строках? Новое искусство в его двойной форме, в книге и картине, родилось в тот же день, когда появились единые устремления, художники, одаренные сходным талантом, публика, готовая им наслаждаться. Был ли это прогресс или что-то ему противоположное? Вопрос этот потомство решит лучше, чем мы.
Положительным здесь является то, что за двадцать - двадцать пять лет, с 1830 до 1855 года, французская школа сделала немало творческих попыток, бесконечно много создала и далеко ушла вперед. Исходя от Рейсдаля с его водяными мельницами, запрудами и кустарниками, то есть исходя от чувства, вполне голландского и выраженного в голландских формулах, французская школа достигла того, что, с одной стороны, в лице Коро создала чисто французский жанр, а с другой - подготовила будущее для еще более универсального искусства в лице Руссо. Остановилась ли она на этом? Не совсем.
Любовь к своему родному всегда была, и даже у голландцев, чем-то исключительным, скорее всего немного странной привычкой. Во все эпохи встречались люди, буквально горевшие желанием посетить чужие страны. Традиция путешествий в Италию была, быть может, единственной, присущей всем школам: фламандской, голландской, английской, французской, немецкой, испанской. Начиная с братьев Бот, Берхема, Клода и Пуссена и вплоть до художников наших дней, не найдешь пейзажиста, у которого не было бы желания увидеть Апеннины и римскую Кампанью, не найдешь местной школы, достаточно сильной, чтобы помешать проникновению в нее итальянского пейзажа, этого чужеземного цветка, приносившего всегда жшь гибридные плоды. За последние тридцать лет в этом умысле ушли далеко вперед. Дальние путешествия соблазнили художников и многое изменили в живописи. Причина этих авантюрных экспедиций объяснялась прежде всего потребностью в целинных землях, свойственной народам, чрезмерно скученным в одном месте, страстью к открытиям, а также воображаемой необходимостью менять места, чтобы создавать новое. Подействовал и пример научных изысканий, успех которых был связан с кругосветными путешествиями, изучением климатов и народов. Результатом явился хорошо известный жанр, космополитическая живопись, скорее новая, чем оригинальная, и притом мало французская. В истории живописи - если только история ею займется - она предстанет перед нами как период любознательности, брожений, беспокойства, а по правде говоря,- как попытка не вполне здоровых людей переменить климат.
Наряду с этим многие художники, не покидая Франции, продолжают искать для пейзажа более определенную форму. Было бы весьма любопытно познакомиться с этим скрытым, медленным и неясным процессом разработки новой формы, до сих пор не найденной и еще далекой от этого. Удивляюсь, что критика не изучила внимательно этот процесс сейчас, когда он происходит на наших глазах. Теперь в среде художников происходит некоторая перегруппировка. Вы видите меньше категорий,- хочется сказать, меньше каст,- чем было раньше. Историческая живопись соприкасается с жанром, который, в свою очередь, приближается к пейзажу и даже к натюрморту. Многие границы стираются. А сколько сближений вызвали поиски живописности! С одной стороны, всюду меньше жесткости, с другой - больше смелости. Полотна менее обширны. Пробуждается желание нравиться другим и себе. Наконец, жизнь вне города открывает глаза на многое. Все это смешало жанры, изменило методы работы. Трудно сказать, какие превращения и какое замешательство вызывает яркий свет полей, врываясь в самые строгие мастерские.
Пейзаж день ото дня привлекает к себе все больше горячих сторонников, но от этого не становится лучше. Те, кто отдался ему целиком, не стали от того искуснее; другим - а их большинство - он служит для упражнения. Пленер, рассеянный свет, настоящее солнце приобретают теперь в живописи, и притом во всякой живописи, значение, какого за ними не признавали никогда и какого они - скажем откровенно - вовсе не заслуживают.
Все причуды воображения, все то, что называли тайнами палитры в эпоху, когда таинственность была одной из прелестей живописи, ныне уступают место любви к безусловной и буквальной правде. Фотографическая точность в изображении тел, фотографический этюд с эффектами света изменили многое в манере видеть, чувствовать и писать. В настоящее время ни одна картина никогда не кажется достаточно ясной, четкой, точной и резкой. Кажется, что механическое воспроизведение действительности стало теперь последним словом опыта и знания, а сущность таланта сводится к соревнованию с механизмом в точности, определенности и силе имитации. Всякое вмешательство личной восприимчивости считается излишним. То, что создавалось воображением, признается искусственным, а всякая искусственность, я хочу сказать, всякая условность, изгоняется из искусства, которое есть само по себе условность. Отсюда споры, в которых копиисты натуры подавляют своим числом. Существуют даже обидные словечки для ^обозначения противоположных методов. Их называют «старой игрой», подразумевая устарелую, бестолковую и отжившую манеру воспринимать природу, внося в нее нечто от себя. Выбор сюжетов, рисунок, гамма красок - все подчиняется этой безличной манере видеть и писать. Мы так далеки теперь от старых привычек сорокалетней давности, когда асфальт лился потоками на палитру художников-романтиков и считался вспомогательной краской для выражения идеального.
Есть время года и место, где эти новые направления заявляют о себе с большим шумом,- это наши весенние выставки. Если вы хоть немного в курсе последних новинок, вы сразу же заметите, что новейшая живопись стремится поразить глаз резко очерченными, буквальными изображениями, легко опознаваемыми в силу их верности натуре, освобожденными от всякой искусственности, и дать нам точно те же впечатления, как то, что мы можем увидеть на улице. И публика охотно приветствует это искусство, с такой верностью передающее ее костюмы, лица, привычки, вкусы, склонности, самый ее дух. А историческая живопись? - спросите вы меня. Прежде всего, можно ли быть уверенным в том, что при нынешнем положении вещей историческая школа все еще существует? И потом, если это старорежимное определение все же применяется до сих пор к традициям, которые блестяще защищают, но очень мало продолжают, то не думайте, что историческая живопись ускользает от слияния жанров и противится искушению влиться в общий поток. Некоторые художники еще колеблются, сомневаются, но в конце концов тоже бросаются в него. Проследите из года в год совершающиеся изменения и, не углубляясь в сущность картин, обратите внимание лишь на их колорит. Если из темного он становится светлым, из черного - белым, из мягкого - жестким, если из глубины он словно всплывает на поверхность, если насыщенные маслом краски уступают место матовым, а светотень - приемам японской цветной гравюры, - то этого уже вполне достаточно, чтобы понять, что совершился всеобщий перелом в сознании и что в мастерские хлынул свет с улицы. Если бы я не был крайне осторожен в моем анализе, я высказался бы яснее и показал бы вам воочию те истины, которые нельзя оспаривать.