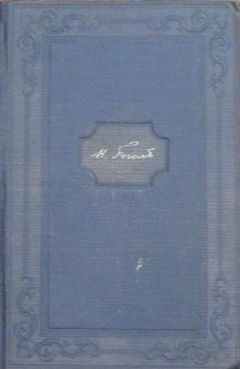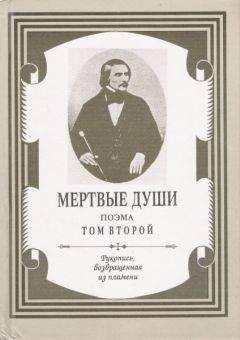Ознакомительная версия.
— Но тут, изволите ли видеть — роман, да и только, — сказал он, несколько загадочно улыбаясь.
— Как так? — состроив в лице недоумение, спросил Чичиков, не в силах понять, как ранняя охота может быть связана с романом.
— О, это презанимательная история, милостивый государь, — отвечал Мухобоев, — её у нас тут, почитай, все знают и очень сочувствуют Модесту Николаевичу, — кивнул он головой в сторону гарцующего вдоль обочины Самосвистова. Чёрный глянцевый жеребец под ним косил налитым кровью глазом и топтал взошедшие вдоль дороги хлеба.
— И в чём история? — полюбопытствовал Чичиков, которому вдруг стало интересно — какой же роман связывает Самосвистова с охотой. Мухобоев принялся рассказывать, и Павел Иванович, слушая его, постепенно менялся в лице, и сам чувствовал, как оно глупеет, теряя любезную улыбку, которая, как можно было думать, навсегда приклеилась к его губам. Рассказ же Мухобоева состоял в следующем: жил якобы в десяти верстах от имения Самосвистова мелкопоместный дворянчик, некто Мохов. Деревенька у него была маленькая, душ — кот наплакал, но хозяйство велось по возможностям, и Мохов этот с шапкой по кругу не ходил, и достоинство и приличие соблюдал, потому как на это средств у него хватало. Но было у этого Мохова и нечто из общего ряду выходящее и необычайное для такой глуши, в которой проводил он свои старческие годы. Необычайное это — была его осьмнадцатилетняя дочь, которую Господь наградил такой статью и красотой, что окрестные помещики специально делали к нему визиты, как бы по—соседски, а на самом деле с умыслом — на дочь его посмотреть и полюбоваться. Разумеется, Модест Николаевич тоже попал под обаяние молодой красавицы и даже после месяца ежедневных посещений имения Мохова решился на предложение руки и сердца, рассчитывая даже некоторым образом польстить Мохову, так как жених он был завидный и богач, не в пример своему соседу. Но как так вышло и что промеж ними случилось, не ясно, но только Самосвистов получил отказ, причём отказ окончательный, и вернулся восвояси, как говорится, несолоно хлебавши. Помещики и чиновники из города, бывшие с ним накоротке, очень ему сочувствовали, ругали Мохова, не видящего счастья для своей дочери, хотя кое—кто и поговаривал, что Модест Николаевич, получивши отказ, пристукнул—таки бедного старика, чему, услыхавши эту подробность от Мухобоева, Чичиков тут же поверил.
— Вот с тех пор наш Модест Николаевич и живёт, почитай, всё время в городе, служит в Гражданской палате, — сказал Мухобоев, — ну, а когда наезжает до маменьки, не упускает случаю досадить своему обидчику, притесняя его по—всякому. Ведь охота—то сегодня шла на моховских землях, — добавил он, — правда, Мохов сам не охотник, у него и собак—то порядочных нет, но вот поле ржи ему повытаптывали, покуда за зайцами гонялись, — закончил Мухобоев описание случившегося с Самосвистовым романа.
"Да от этого господина и впрямь можно дождаться любой выходки", — подумал Чичиков, вспоминая своё впечатление, возникшее от Самосвистова.
— Весьма трогательная история. Однако жаль господина Самосвистова, очень располагающий к себе человек, — сказал он Мухобоеву.
— Вы правы, очень, очень располагающий, — поспешил заверить его Мухобоев, и Чичикову от чего—то показалось, что тот не раз и не два получал от Самосвистова под ребро. "Да, наверное, и не он один", — подумал Чичиков, но вслух ничего не сказал. Они поговорили ещё некоторое время, Мухобоев похвалил коляску, которую оглядывал горящими от некоего скрываемого чувства глазами: то ли жадность, то ли зависть, то ли любопытство были тем хворостом, от которого в глазах его вспыхивали нехорошие огоньки. Дорога тем временем свернула в тенистую аллею, обсаженную дубами, чьи ветви смыкались над входящими под сень вековых дерев путниками наподобие полога. Коляска въехала в тень, отбрасываемую дубовыми листами, и Павел Иванович вдохнул в себя некий особый дух, терпкий и тёплый, идущий от разогревшихся на солнце дерев, дух, свойственный только млеющей под солнечными лучами дуброве. В конце затенённой аллеи, на довольно большом расстоянии ярким пятном горела на свету поляна того зелёного цвету, какой бывает только на весенней, не успевшей ещё повыцвести траве, и сверкал белизною фасад красивого дома с колоннами. Дом и вправду производил приятное впечатление, и впечатление это не менялось по мере того, как коляска с нашим героем приближалась к нему, как это довольно часто бывает: увидишь нечто, что покажется сказочно красивым и удивительным, протянешь руку, чтобы получше и поближе рассмотреть, и отбросишь прочь, огорчась пошлой подделкой и обманом чувств. Но тут было не так; высокие колонны, поддерживающие ротонду, обегали с обеих сторон полукруглые каменные ступени, упирающиеся в посыпанную белым гравием дорожку, ведущую от аллеи, по бокам лестницы сидели высеченные из белого камня полногрудые сфинксы с женскими лицами и по—бабьи подвязанными платками, и всё это было отменной чистоты и состояния, и гравий на дорожке, словно бы специально вымытый к приезду гостей, и каменные стены дома, и высокие окошки обоих этажей, отбрасывающие своими стёклами солнечные зайчики на росшую вокруг дома траву. Охотники, несколько обогнавшие Павла Ивановича и его спутника, вероятно, были уже в доме, потому что ни людей, ни лошадей у крыльца видно не было, из чего Чичиков заключил, что слуги тут послушны и расторопны и успели уже прибрать лошадей. Одна лишь фура с собаками стояла у угла дома, точно кого—то поджидая. Коляска подъехала к полукруглой лестнице, и навстречу ей сбежал Модест Николаевич Самосвистов, приветствуя Чичикова в своём имении.
— Ну вот, Павел Иванович, — сказал он, распахивая для приветствия объятия, — милости прошу, и будьте здесь не гостем: будьте точно в родном доме.
Они облобызались с Павлом Ивановичем под растроганные взгляды Мухобоева, кажется, даже готовящегося к тому, чтобы пустить слезу.
— А что, матушка ваша здоровы—с, — спросил Чичиков, заводя светский разговор и надеясь сим заботливым вопросом об матушке расположить к себе Самосвистова елико возможно.
— Матушка почивают после чаю, — ответил Самосвистов, — к обеду выйдут. А вы, Павел Иванович, не хотели бы посмотреть моих собак, они у меня, почитай, все братовской породы, есть даже и из—под Наяна две, сучки щенные, — сказал он, и лицо его засветилось гордостью. Павел Иванович, знающий обо всём понемногу и ровно столько, чтобы уметь не сбиться в разговоре и подыграть, польстить своему собеседнику, разбирался отчасти и в собачьих статьях, но что это за братовская порода — и кто таков Наян, не знал вовсе. Всё же он сделал удивлённые глаза и, состроив в чертах лица своего восхищение, произнёс голосом человека, поражённого этим известием до самых глубин своей души:
— Не может быть, Модест Николаевич, покажите! Об одном прошу, дайте хоть глазком взглянуть!
Лицо Самосвистова засветилось ещё ярче.
— Прошу, — сказал он, улыбаясь довольною улыбкою и пропуская Чичикова вперёд, — а ты иди в дом, — бросил он Мухобоеву.
— Пошёл, — скомандовал он, подходя к фуре, и та, заскрипев и качнувшись с боку на бок, потащилась, огибая дом, к бывшему в глубине растущего за домом огромного сада псарному двору.
— Без меня по клетям не разводят, это уж у нас так заведено, — сказал Самосвистов, на что Чичиков одобрительно кивнул головою, правда, не зная, хорошо то или плохо.
Псарня, как и всё тут, поражала порядком на ней царящим, хотя и стоял здесь дух известно какой, но чистота была образцовая: и стены, и полы, и перильца клетей были выкрашены масляною краскою. Ловчие стали разводить по клетям гончих, сдавая их псарям, давая указания, каково той или другой собаке, у кого сбита лапа, у кого коготь, кому и какой мазью или припаркой лечить царапины и ушибы. Чичиков, мимо которого проводили двух пегих псов, сказал:
— Хороши, однако, эти два арлекина.
— Да, они у меня, почитай, стаю и правят, это Крушило и Помыкай. Гончаки у меня костромской линии, и я через двух этих кобелей линию веду, — отозвался Самосвистов, с интересом глянув на Чичикова и, видимо, принимая его за знатока. А Чичиков подумал: "Слава богу! Надо же, ткнул пальцем в небо и попал", — лицо же делая тем временем в точности такое, какое пристало иметь знатоку и ценителю собачьих статей. Гончих тем временем уже рассовали по клетям, и Самосвистов предложил Павлу Ивановичу полюбоваться борзыми — предметом его неутихающей гордости. Они прошли на половину к борзятникам, и Самосвистов растворил дверь, пропуская впереди себя Чичикова с улыбкою, которая вполне могла бы присутствовать на челе какого—либо восточного деспота, открывающего потайную дверцу, ведущую в пещеру, полную сребра, злата и драгоценных камней. Здесь было попросторнее, и потолки повыше, сквозь прорубленные на высоте человеческого росту окошечки лился солнечный свет, ложась на крашеные полы жёлтыми угловатыми фигурами. Несколько бывших в проходе борзых кинулись к вошедшим, так что у Павла Ивановича в первый момент захолонуло сердце. "Чёрт, куда притащил", — подумал он, в нерешительности приостанавливаясь. Но борзые вовсе и не думали рвать пухлое и нежное тело Павла Ивановича. Радостно повизгивая, они принялись выделывать резвые прыжки, норовя лизнуть вошедших в лицо. Павел Иванович натуженно посмеиваясь, пытался незаметно, дабы не дай бог не обидеть Модеста Николаевича, прикрыться рукою, Самосвистов же и не думал обороняться от липких собачьих языков, он с удовольствием подставил своим псам щёки, целуя в ответ их мокрые носы и узкие длинные морды.
Ознакомительная версия.