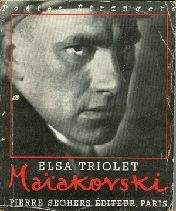Читатель ни на минуту не оставлен в покое, он должен следить, он должен произносить, одни слова громче, другие тише, и опять громче, и еще громче, и сделать паузу, и оборвать вовремя... И все эти сложные внешние действия призваны или заменить недостающие, или приглушить нежелательные собственные, внутренние свойства стиха.
Piccicato'ми... Разрывом бус!
Паганиниевскими "добьюсь!"
Опрокинутыми...
Нот, планет - Ливнем! - Вывезет!!!
- Конец... На-нет...
В этих стихах, даже разбитых в маяковскую лесенку (на сей раз уже автором), ни одно слово не живет само по себе, каждое сжато или растянуто, вздернуто или приплюснуто. А называются стихи всего лишь "Ручьи". И они о ручьях.
Разумеется, и во втором цветаевском периоде есть свои несомненные взлеты.
Временами она вдруг как бы просыпается от страшного сна, где все, как и полагается в страшном сне, подчинено несуществующим закономерностям и изливается в свободном, живом стихе. Однако и здесь результат стиха - не зримый или звучащий образ, а звучная формула, афоризм, порой достаточно громкий и яркий, но не знающий эха и последействия...
От этой, выматывающей силы и нервы, неблагодарной борьбы со стихом она с облегчением уходит в вольную прозу. Ее достижения здесь бесспорны. Здесь она умна, артистична, щедра и богата. Проза Цветаевой- это подвиг, вполне достойный ее нищей мучительной жизни. Но и здесь обнаруживается водораздел между органическим и конструктивным, хотя, возможно, и не столь однозначно отнесенный ко времени. Пожалуй так, что временная рамка очерчивает скорее не момент написания, а предмет разговора: человека, событие. Там, где предмет определен и ясен, то есть, как правило, в прошлом и давнем, проза Цветаевой точна и насыщенна. Там же, где предмет не особенно четок, где нет необходимости, а есть лишь повод,- там опять совершается насилие над словом, там слово подменено словами, там фразой, абзацем, страницей подменяется мысль. Заведенная ею пружина речи каждый раз должна раскрутиться до конца. Вместо самочитаемости - самораскрутка, механическая ее модель. Ни один период не может кончиться, пока не будут перечислены и как-то использованы все однокоренные слова или все, допустим, слова с данной приставкой. Тайное, глубинное родство - слов и слов, слов и понятий - заменяется поверхностным, механическим - грамматическим их родством.
Эта лингвистическая карусель превращает картину мира в мелькание звуков, кружит голову, выматывает CHJpJ, ничего не дает душе.
"Маяковского долго читать невыносимо от чисто физической растраты. После Маяковского нужно долго и много есть".
Эти точные слова первой, богатой Цветаевой можно с успехом отнести к ней же бедной, второй.
Формальное сходство ее стихов этого, второго периода со стихами Маяковского бывает почти дословным.
Пожарные! - душа горит!
Не наш ли дом горит?
До эйфелевой рукою Подать! Подавай и лезь.
Не хочу в этом коробе женских тел Ждать смертного часа!
Я хочу...
И т. д.
Но поразительней всего это сходство там, где дело касается социальной тематики.
Здесь и пафос тот же, и те же картинки, даже нечто вроде окровавленных туш.
Поспешайте, сержанты резвые!
Полотеры купца зарезали.
Получайте, чего не грезили:
Полотеры купца заездили.
("Но-жи-чком на месте чик лю-то-го помещика")
И та же, не дающая покоя, ненависть к сытым и толстым, и изобличение мещанского быта, вплоть до многострадальных перин, и та же вечная жалоба на бедность и обойденность. Разница только в том, что Цветаева не ездила в международных вагонах, а на самом деле, в реальной жизни - была до конца своих дней голодной и нищей. Но тем более, но именно поэтому декоративный наряд Маяковского выглядит на ней неуклюже, с чужого плеча, тем нелепей звучит его суетное обличительство.
Сопоставление почти всегда не в пользу Цветаевой. Ибо, отдадим должное Маяковскому, он предъявляет то, что имеет, а имеет он только маску. У Цветаевой же всегда из-под маски стиха выглядывает подлинное ее лицо, единственно нам интересное. Отсюда неотвязное побуждение: отодвинуть маску, отбросить стих, разглядеть знакомые живые черты...
Она любила Маяковского и Пастернака, Пастернак был ей кровным, предельно близким, едва ли не слившимся с ней, так ей казалось, но при этом он был слишком закрытым, герметичным и как пример - безопасным. Маяковский всегда оставался далеким и в то же время - на виду, на ладони. И так был велик подспудный соблазн, так явственен путь...
В ней было достаточно много мужского, она тоже порой чувствовала себя грубым верзилой, ломовиком, таким же архангелом-тяжелоступом... Нельзя не заметить что эти стихи - и о ней самой.
Потому и не влияние - а внедрение, неотвязное присутствие Маяковского в чуждой ему душе другого поэта. Чуждой - а все же в чем-то важном сходной и родственной...
О Маяковском и Пастернаке она написала в прозе - живо, кратко и точно. Но, называя характерные черты каждого" словно бы не заметила - и не заметила, и конечно бы ни за что не признала,- что сопоставляет не эпос и лирику, а поэзию - и непоэзию. Причем делает это так энергично, что порой хочется вступиться за Маяковского. Но примечательней всего критерий сходства.
"Мы подошли к единственной мере вещей и людей в данный час века (1932 г.- Ю. К .): отношению к России. Здесь Пастернак и Маяковский единомышленники. Оба за новый мир..."
От такого текста уже недалеко до челюскинцев, и да здравствует, и все это - путь из Парижа в Москву и дальше - в Чистополь и Елабугу...
Вам - просветители пещер - Призывное: СССР,- Не менее во тьме небес Призывное, чем: SOS.
Так способ выражения - через конструкцию, через лозунг и декларацию становится способом восприятия времени, способом понимания мира (нового). Здорово, Владимир!
6 И сегодня, кроме трех пародийных поэтов, есть по Крайней мере один серьезный - быть может, вообще самый серьезный , - в творчестве которого по высшему разряду, на уровне, о котором только мечтать, - возродился? воскрес? воплотился? - живет Маяковский.
Иосиф Бродский.
Первое побуждение при этом имени - отвергнуть не только прямую преемственность, но вообще какое бы то ни было сходство.
Чуждый суетного самоутверждения, всегда стоявший сам по себе, никогда никому не служивший, изгой и изгнанник - Бродский по всем ориентирам жизни и творчества уж скорее противоположен, чем близок Маяковскому. Культура и революция, прошлое и будущее, человек и государство, Бог и машина, наконец, просто добро и зло - все эти важнейшие мировые понятия в системах Бродского и Маяковского имеют противоположные знаки.
Но разве система взглядов определяет поэта? В этом деле главное творческий метод, способ восприятия мира и его воссоздания.
Что ж, казалось бы, и тут - никаких параллелей. Традиционно уважительное обращение со словом, нерушимый классический метр, спокойное, без разломов, движение, где самый большой катаклизм - перенос строки, скромная, порой нарочито неточная рифма. Что общего здесь с Маяковским?
Но в том-то и дело, в том-то и фокус, что Бродский - не подражатель, а продолжатель, живое сегодняшнее существование. Это совершенно новый поэт, столь же очевидно новый для нашего времени, каким для своего явился Маяковский.
Маяковский обозначил тенденцию, Бродский - утвердил результат. Только Бродский, в отличие от Маяковского, занимает не одно, а сразу несколько мест, потому что некому сегодня занять остальные.
Бродский не только не в пример образованней, он еще и гораздо умней Маяковского.
Что же касается его мастерства, то оно абсолютно. Бродский не обнажает приема, не фиксирует на нем внимание читателя, но использует весь запас поэтических средств с хозяйской, порой снисходительной уверенностью. Все ладится у него в руках, ничто не выпирает, не падает на пол, и даже, казалось бы, вовсе пустые строки оказываются необходимыми в его контексте, несущими свой особый заряд.
Восхищение, уважение - вот первое чувство, возникающее во время чтения Бродского и всегда остающееся при нас. Второе - то, что возникает после, а вернее, то, чего после не возникает.
Стихи Бродского, еще более, чем стихи Маяковского, лишены образного последействия, и если у Маяковского это хоть и важный, но все же побочный результат конструктивности, то у Бродского - последовательный принцип. Силу Бродского постоянно ощущаешь при чтении, однако читательская наша душа, жаждущая сотворчества и очищения, стремится остаться один на один не с продиктованным, а со свободным словом, с тем образом, который это слово вызвало. И мы вновь и вновь перечитываем стих, пытаясь вызвать этот образ к жизни, и кажется, каждый раз вызываем, и все-таки каждый раз Остаемся ни с чем. Нас обманывает исходно заданный уровень, который есть уровень разговора - но не уровень чувства и ощущения.
Есть нечто унизительное в этом чтении. Состояние - как после раута в высшем свете. То же стыдливо-лестное чувство приобщенности неизвестно к чему, то же нервное и физическое утомление, та же эмоциональная пустота. Трудно поверить, что после того, как так много, умно и красиво сказано, так и не сказано ничего.