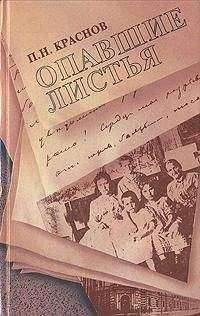Сны обычно забываю, после того как проснусь. Помню только некоторые. Они время от времени повторяются.
***
С утра моросил дождь, а к вечеру пришло и солнце. Встала красивая березовая роща на горизонте, но до нее не дошел. Рыжики щедрые, яркие, но не частые, и черных груздей немного.
У клена в зеленой листве еще только одна ветка обожжена багровым огнем. Ни первый ли тревожный знак в лесу над заросшей затравевшей дорогой с чистыми лужами.
***
Проснулся посреди ночи. Тишина. Мороз на стеклах окон положил свой след. Земля белая при свете фонарей от небольшого снега. Начало зимы, ледяной холод от промерзшей земли, еще не укутанной по-настоящему снегом.
Читал дневники Толстого:
«Я теперь испытываю муки ада. Вспоминаю всю мерзость своей жизни, и воспоминания эти не оставляют меня и отравляют мне жизнь».
«Односторонность есть главная причина несчастий человека».
«У народа есть своя литература — прекрасная, неподражаемая; но она не подделка, она выливается из среды самого народа. Нет потребности в высшей литературе и нет ее. Попробуйте стать совершенно на уровень с народом, и он станет презирать вас».
«А потом — эта ужасная необходимость переводить на слова и строчить каракулями горячие живые и подвижные мысли, подобные лучам солнца, озаряющим воздушные облака. Куда бежать от ремесла! Великий Боже!»
«Тщеславие есть какая-то недозрелая любовь к славе, какое-то самолюбие, перенесенное во мнение других — он любит себя не таким, как он есть, а каким он показывается другим».
«Нет границы великой мысли, но уже давно писатели дошли до неприступной границы их выражения».
«Понятие вечности есть болезнь ума».
«Простой народ привык к тому, что с ним говорят не его языком, особенно религия, говорящая ему языком, который он уважает тем более, что не понимает».
Читал эти дневниковые записи и с грустью думал, что у нас-то и настоящего ремесленничества недостает, захлестываемся волной неопрятной безграмотности, многотомной посредственности, приблизительной и с точки зрения художественной, и в отношении к правде жизни.
***
Побывал все-таки у Виктора Ильича Ливенцева, попросил автограф для тестя. Конечно же, тестя он не помнит, но сто человек у него действительно отбирали из бригады для охраны Дома правительства. Еще сказал, что теперь на послевоенные встречи ветеранов и приходят в основном те, кого тогда выделили для охраны. А сама бригада была брошена в бои с регулярными немецкими частями и через месяц была почти вся выбита. Об этом он не напишет и не скажет прилюдно. Да такая же судьба была не только у его бригады.
Прочитал у Достоевского: «Мне грустно было, что звание писателя унижено в наше время каким-то темным подозрением и что на писателя уже заранее, прежде чем он написал что-нибудь, цензура смотрит как будто на какого-то естественного врага правительству и принимается разбирать его рукопись уже с очевидным предубеждением».
***
Зима в ночь с тридцатого на тридцать первое и заснежила, и подморозила, точно в соответствии с Новым годом. И в целом зима стоит и морозная, и чистая, и белая, а в лесу кажется и тепло, на лыжах совсем не холодно.
***
Вчера слушал по телевизору грустный монолог из чеховской «Чайки» о человеке, который хотел жениться, стать писателем. Как все повторяется в жизни, и ты сам повторяешься в том числе!
Или это так научились ставить чеховские произведения, с проекцией на самого автора, на его биографию. Или потому, что ты знаешь ее и видишь в постановках биографические мотивы. Еще одно подтверждение тому, что писательство — биография души писателя, вложенная во многих и многих.
***
У Толстого в 1858—73 годы совсем мало писано в дневники. В это время он писал книги. Все было в памяти души. Только короткие, как вспышки молнии, пометки в записных.
«Сейчас меня облаком радости и сознания возможности сделать великую вещь охватила мысль написать психологическую историю романа Александра и Наполеона. Вся подлость, вся фраза, все безумие, все противоречие людей, их окружавших, и их самих».
«Художник звука, мнений, цвета, слова, даже мысли в страшном положении, когда не верит в значительность выражения своей мысли».
«И на религию смотреть исторически есть разрушение религии».
«Чем мудрее люди, тем они слабее».
«Поэт лучшее своей жизни отнимает и кладет в свое сочинение. Оттого сочинение его прекрасно и жизнь дурна».
«Запретите употреблять искусственные слова, и свои, и греческие, и вдруг упадет поднявшееся на этих дрожжах тесто науки. А то наберут слов, припишут условно, по общему согласию, значение этим словам и играют на них, точно в шахматы.»
«Одно искусство не знает условий времени, ни пространства, ни движения, — одно искусство, всегда враждебное симметрии — кругу, дает сущность».
***
Уже два дня оттепель. Мокро, сыро. А ночью вдруг мороз, метель, утро морозное, солнце такое яркое, что его много, от него болят глаза. И небо высокое, еле уловимый запах весны. Может, это и от подмерзшего снега, ледка. И от солнца тоже, и от высокого неба, может, и ветви пахнут после недавней влажности.
***
«Люди, которые не знают ни законов языка, — ни самих языков, ни белорусского, ни польского, ни русского (жаргон, на котором они разговаривают и пишут, нельзя назвать языком), сумели, к сожалению, установить правило писать не Менск, Навагрудак, как пишется в русских, белорусских, славянских летописях, а «Минск», «Новогрудок», это значит, согласно польскому произношению. И люди эти искренне верили, что этим мероприятием сражаются с влиянием польского языка на белорусский».
Читая Чорного, вспоминал, как жаловался он, что занят ненужной писаниной, имея единственное ясное желание — писать прозу, потому что это самое главное. К этому пришел и Мележ.
***
Три дня праздников. Был в лесу. Поднял несколько строчков. Они красивые, как цветы. За прошедшие теплые дни прорезались зеленью листики на березах. В лесу краснеет петров крест, особенно в березняках. Питается он от корней деревьев, и корневище может набрать вес до пяти килограммов. Время ветреницы, сон-травы.
***
Танцы во дворе, что-то среднее между свадьбой и большими гостями. Девки приплясывают. Слышен барабан. Эхо идет между домов.
И частушки:
Как бывало, я давала
По четыре раза в день.
А теперь моя давалка
Получила бюллетень.
То лучшее, что пела когда-то деревня, забылось, новое не родилось, и поют прилюдно пошлятину, которую раньше бы и пьяная компания не запела.
***
Вчера шел на коллегию министерства культуры. На входе в Дом правительства разговор с сержантом:
— С дипломатом нельзя.
— Хорошо, я сдам его в гардероб.
— Гардероб не работает.
— Куда же его девать?
— В камеру хранения.
— А где камера?
— Ближайшая на вокзале.
Плюнул и пошел прочь. Это реальное воплощение предолимпийской бдительности.
***
Вчера собирал Александр Трифонович для общих установок по освещению олимпиады. Его рассказ о том, что наши спортсмены радуются, что их смотрят по телевизору как иностранных, именно как иностранных.
***
Был вчера у Антоновича в связи со статьей Адамовича, где он обвиняет Далидовича, да и всех молодых — рикошетом и всю белорусскую литературу, — в провинциализме, излишнем внимании к национальному. Написал к статье страничку врезки с цитатою из Мележа о провинциализме. Ив. Ив. согласен, что нельзя выпускать печатанье статьи из республики, потому что Адамович опубликует ее в Москве. Вообще, эти подтекстовые обвинения в национализме не нужны и в республике. У нас нет никакого национализма — эта позиция ЦК мне известна. Он во многом согласен с Далидовичем, не приемлет пренебрежительных пассажей в сторону молодого оппонента. Но очевидно, что исходя из высших интересов, — чтобы не было ненужного резонанса с политическим подтекстом — оскорбление молодой спорщик получит.
Адамович, оказывается, умелец и ярлыки навешивать. «Не успел стать редактором, а уже развел групповщину». Это после того, как я отказался печатать статью Василевич в поддержку Адамовича.
Перечитал его статью в «Новом мире». Там он еще и меня, грешного, поминает. Но нашу прозу полностью пускает в подверстку русским «деревенщикам», сожалеет, что у нас нет своего Абрамова, забывая о том, что у нас есть свой Мележ. Радуйся, белорус, что и ты похож на кого-то из больших соседей. Если сопоставить этот текст с тем, который был изначально напечатан в «ЛіМе»? Тут, помнится, было меньше подлизывания к столичным.
Статьей возмущается и Иван Николаевич Пташников, сказал, что даже написал две страницы возмущения. Борис Иванович Саченко: «Он думал, что через Далидовича и нас выманит из берлоги, но из этого ничего не выйдет, вот если бы был жив Мележ!» Алесь Асипенко был лаконичен: «Никто бы так Адамовичу не смог на.ть в шапку, как это он сам себе сделал».