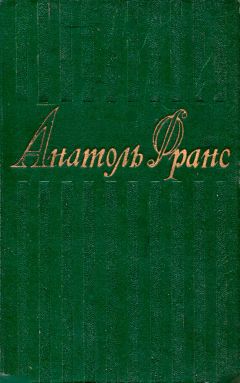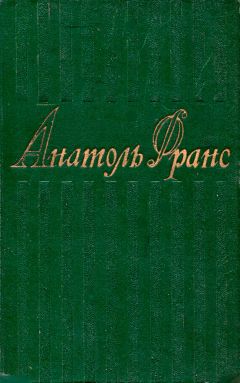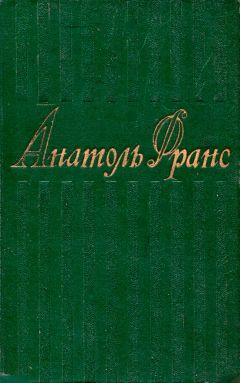Необычный, новый в литературе персонаж, столь не похожий на «героя романа» и, однако же, избранный Франсом в герои, конечно, не мог не заинтересовать читателей. Сильвестр Бонар не раз с удивлением отмечает, как он не похож на окружающих его людей. Человеческая жизнь приобретает в восприятии одинокого чудака ученого совершенно неожиданные пропорции, перспектива смещается, и то, что другим кажется привычным, второстепенным, перерастает для него свои нормальные размеры. Одна из самых ярких черт, связанных с подобного рода восприятием, — любовь к науке, к историческим документам. К ним он пылает подлинной страстью. «Золотая легенда» в неизвестном дотоле списке, которую разыскивает Сильвестр Бонар, превращается для него в далекую возлюбленную, он стремится к ней со всем пылом нетерпеливого любовника. Сильвестр Бонар изображен Франсом с тонким и доброжелательным юмором, полным любви и уважения к благородному, чистому сердцем, одновременно и мудрому и детски-наивному энтузиасту ученому. По мягкости, даже какой-то нежности, юмористического изображения героя роман «Преступление Сильвестра Бонара» можно сравнить разве что с «Записками Пиквикского клуба», при всем несходстве между героями этих двух книг, при всем несходстве между Франсом и Диккенсом. Такая нежность к своему герою в сердце Франса, столь не склонного к нежности, очень знаменательна. Франс любит Сильвестра Бонара как хранителя гуманистических заветов, как человека, свободного от власти мракобесия, от своекорыстных расчетов, от тупости догматизма.
Если бы Сильвестр Бонар оставался безвыходно в стенах своего кабинета, Франс создал бы лишь психологический этюд, не более; но Сильвестр Бонар не только единомышленник Франса в области гуманистических традиций, — он выступает на страницах романа и в качестве помощника писателя при сатирическом обличении социальных нелепостей буржуазного мира. Далекий от житейской практики, Бонар в то же время с необычайной прозорливостью умеет расценивать по существу те явления общественной жизни, с которыми ему все же приходится сталкиваться. Основной смысл первого романа Франса и заключается в том суде над буржуазным обществом, который творит его герой. Бонар на своем небольшом практическом опыте убеждается в величайшем беззаконии буржуазных законов: борясь с подлинными преступниками, Бонар сам вынужден формально стать преступником, так как нарушает одно из положений закона, карающего за похищение несовершеннолетних.
В основе книги таким образом лежит парадокс, подчеркнутый самим ее заглавием. Парадокс стал для Франса своеобразным способом художественного изображения современных ему социальных противоречий, стал орудием его сатиры. В связи с этим интересно отметить, что Сильвестр Бонар открыто высказывает свое пристрастие к парадоксу: вспоминая о случайно подслушанном им разговоре студентов, изобиловавшем «самыми чудовищными парадоксами», старый ученый восклицает: «В добрый час! Я не люблю слишком рассудительных молодых людей!» Парадоксами пересыпан весь текст книги; так, Сильвестр Бонар замечает: «Нищета богачей достойна сожаления». Парадокс развивается порою в целый эпизод, в диалог; утверждению, высказанному нотариусом о том, что нельзя учиться забавляясь, Бонар противопоставляет парадоксальную мысль: «Вот именно, только забавляясь и можно учиться!»
Интеллектуально и эмоционально близкий Анатолю Франсу, нередко превращающийся в рупор его сатирических суждений, парадоксальных сентенций и т. п., Сильвестр Бонар, вопреки довольно стойкому у критиков и читателей обыкновению, не может, однако, рассматриваться как самоизображение писателя, его «второе Я». Воспоминания современников рисуют тридцатисемилетнего Анатоля Франса как человека, очень мало похожего всем своим житейским обликом и манерами на созданного им Сильвестра Бонара. Так, Марсель Пруст, впервые встретившись с Франсом, был совершенно разочарован несоответствием между созданным им по книгам Франса обликом писателя, «убеленного сединами», и представшим пред Прустом «некрасивым человеком с улиткообразным носом и черной бородкой», «говорившим в нос, напыщенно и монотонно». Во внутреннем облике Франса, разумеется, больше близости к Сильвестру Бонару. И все-таки Франс — не Сильвестр Бонар.
Герой Франса свою коллизию с социальной действительностью разрешает путем ухода к самым корням бытия; свой неиссякаемый оптимизм он сохраняет в кругу любимых молодых существ, воплощающих для него всю победоносную прелесть жизни, в общении с природой. Однако и после ухода Сильвестра Бонара к любимым юным друзьям, к цветам и пчелам, грязь и преступления буржуазного мира продолжают существовать. Не следует преувеличивать значение так называемых «счастливых концов», — далеко не всегда они даются автором как решение основной темы и нередко служат лишь завершением фабулы, почти никогда не вмещающей в себя содержания книги. Сильвестр Бонар ушел на покой. Анатоль Франс на покой уйти не мог. Первый роман был только началом его гигантской разоблачительной работы, беспрестанного вышучивания противоречий капиталистического строя, в таком изобилии обнаруживаемых социальной практикой французского империализма.
После выхода в свет «Преступления Сильвестра Бонара» Франс занял видное место в литературной жизни своей страны. А эта жизнь была в последней четверти XIX века чрезвычайно сложной. В творчестве Мопассана, Золя, Доде продолжались традиции французского реализма XIX века, но в сильной степени давал себя знать и натурализм. Импрессионистическое искусство, широко распространившееся во французской живописи, проявлялось и в литературе, особенно заметно — в творчество Гюисманса (роман «Наоборот»). На смену парнасцам пришли символисты, во главе со Стефаном Малларме и Полем Верленом, — а наряду с этим продолжало жить и развиваться боевое искусство поэтов и прозаиков Парижской коммуны — Эжена Потье, Луизы Мишель, Ж.-В. Клемана, Ж. Валлеса.
Франс не примкнул ни к импрессионистам или символистам, ни к натуралистам. Искусство Коммуны было ему чуждо. Своеобразно сочетая традиции реализма XIX века с литературными традициями просветителей, он в сущности долго оставался одиночкой в многосложной и разнообразной литературе своего времени. Правда, из писателей-современников немалое влияние оказал на него Эрнест Ренан своей философией относительности и скептицизмом, облеченными в столь изысканную литературную форму. Но при всем своем восхищении Ренаном Анатоль Франс далеко не во всем был его единомышленником. Автору «Сильвестра Бонара» всегда оставалась чужда и ренановская мысль о решающей исторической роли «избранной личности» и стремление Ренана утвердить новый католицизм на эстетической основе. Да и эстетизм носил у Франса иной характер, чем у Ренана, — достаточно вспомнить, как часто пользовался Франс именно эстетической аргументацией в своей критике буржуазной современности — в частности, и в своей борьбе с католической реакцией.
Следующее крупное произведение Франса — роман «Таис» (1890), отделенный от «Преступления Сильвестра Бонара» почти что десятилетием. В этой книге Франс показал себя блестящим мастером исторической детали, воспроизведя с поразительной пластичностью Александрию начала нашей эры. Умело и поэтически убедительно воссоздал он столкновение языческого и христианского мира, причем осуществил он это в конкретных, реалистических образах. Читая эту книгу, мы как бы воочию видим и мрачное жилье аскета-отшельника, и роскошный дом язычницы-актрисы, наполненный предметами искусства, мы видим театральные представления, присутствуем на философских спорах и как бы сами ощущаем терпкую грусть спорщиков, уже утративших целостность античного мировоззрения классической поры, уже утративших, казалось бы, и самую способность спокойно наслаждаться благами жизни и красотами искусства. Из главы в главу движутся перед нами люди этих далеких времен, исторические образы, то тщательно выписанные, то обрисованные всего несколькими взмахами пера, но не похожие ни на переодетых современников автора, ни на музейные экспонаты. Они, пожалуй, даже более ярки, чем образы франсовских героев в произведениях из современной жизни. Особенно это относится к образу Таис.
И все-таки книгу «Таис» нельзя без оговорок назвать историческим романом. Против такого жанрового определения говорят прежде всего сохранившиеся высказывания самого автора, да и в первом издании произведение называлось «философской повестью». Надо заметить, что такой же подзаголовок имеется и на рукописи, хранящейся в Национальной библиотеке. Кстати сказать, рукопись эта первоначально носила заглавие «Пафнутий», но оно перечеркнуто карандашом, а сбоку рукою Франса написано новое заглавие — «Таис». Как сообщает Франс, заглавие было изменено по настоянию друзей, в целях благозвучности и большей привлекательности для читателей. Конечно, Франс не согласился бы на такую замену, если бы прелестный женственный образ Таис занимал в книге второстепенное место, — нет, этот образ как бы господствует над всем повествованием, обаятельно трогательный, цельный и человечный. Сам автор как бы влюблен в свою героиню, которой еще в 60-е годы он посвятил поэму в стихах под тем же заглавием «Таис», уже набрасывающую в основных чертах пленительный образ александрийской актрисы.