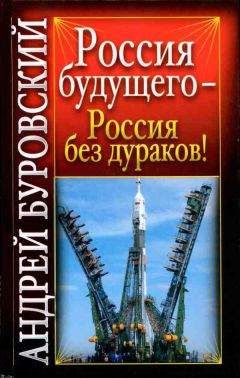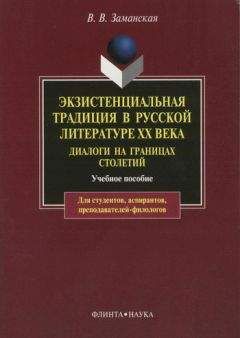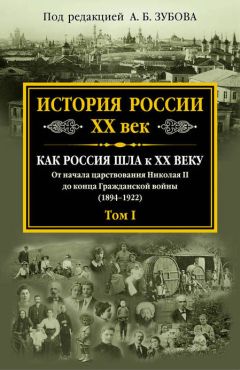Четвертые, наконец, цитировали того же Леонтьева, завещавшего, что «России надо совершенно сорваться с европейских рельсов и, выбрав совсем новый путь, стать во главе умственной и социальной жизни человечества». Или современного московского философа (Вадима Межуева), уверенного, что «Россия, живущая по законам экономической целесообразности, вообще не нужна никому в мире, в том числе и ей самой». Ибо и не страна она вовсе, но «огромная культурная и цивилизационная идея».
Ну как было с этим спорить? Тут ведь, как и после крымской катастрофы, совершенно очевидно говорило уязвленное национальное самолюбие. Куда денешься, отвечал я на цитаты цитатой. Не знаю, почему она мне запомнилась. Итальянка Александра Ричи саркастически описывала такие же примерно речи немецких тевтонофилов времен Веймарской республики. И звучали эти речи так: «Германские девственницы девственнее, германская преданность самоотверженнее и германская культура глубже и богаче, чем на материалистическом Западе и вообще где бы то ни было в мире».
Не забудем, комментировал я цитату, во что обошлись Германии эти высокомерные речи, это, говоря словами B.C. Соловьева, «национальное самообожание». Не пришлось ли ей из-за них пережить три (!) национальные катастрофы на протяжении одного XX века — в 1918-м, 1933-м и 1945-м? И горьким был для неё хлеб иностранной оккупации.
Нет, я не думаю, что история чему-нибудь научила немецких тевтонофилов. Они и сейчас, наверное, ораторствуют друг перед другом в захолустных пивнушках о духовном превосходстве своей страны над материалистической Европой. Но вопреки затрепанному клише, что история ничему не учит, Германию она все-таки кое-чему научила. Например, тому, что место державным националистамв пивнушках, а не в академических институтах. Короче, она признала себя Европой, а своихтевтонофилов маргинализовала. И судьба её изменилась словно по волшебству.
Но разве меньше швыряло в XX веке из стороны в сторону Россию? Разве не приходилось ей уже устами своих поэтов и философов прощаться с жизнью? Вспомним хоть душераздирающие строки Максимилиана Волошина
С Россией кончено. На последях Её мы прогалдели, проболтали, Пролузгали, пропили, проплевали,
-Л
Замызгали на грязных площадях.
Вспомним и отчаянное восклицание Василия Розанова: «Русь слиняла в два дня, самое большее в три... Что же осталось-то? Странным образом, ничего». Не холодеет у вас от этих слов сердце?
Так почему же и три поколения спустя после этого страшного приговора, даже после того, как наследница «слинявшей» розановской Руси, советская сверхдержава, опять «слиняла» в августе 91-го — и, заметим, точно так же, как её предшественница, в два дня, самое большее в три, — почему и после всего этого Россия ничему в отличие от Германии не научилась? Не отправила своих славянофильствующих из академических институтов в захолустные пивнушки?
Введение
И в результате по-прежнему отказывается признать себя Европой, опять отвечая на простые вопросы все той же высокомерной риторикой. Ведь дважды уже — в одном лишь столетии дважды! — продемонстрировала эта риторика свою эфемерность, никчемность. Немыслимо оказалось, руководясь ею, уберечь страну от гигантских цивилизационных обвалов, от «национального самоуничтожения», говоря словами того же Соловьева.
Проблема гарантий
Готов признать, что погорячился. Не следовало, конечно, вступать в столь жестокую полемику с высоколобыми из академических институтов. С другой стороны, однако, очевидноведь: те немногие из них, кто не согласен со своими славянофильствующими коллегами, не нашли аргументов, способных их переубедить. И потом оченьуж нелепо и провокационно звучали заклинания этих славянофильствующих — на фоне разоренной страны — в момент, когда её будущее зависело оттого, сумеет ли она обрести европейскую идентичность.
Пожалуй, единственным мне оправданием служит то, что в аудиториях без академических претензий (или откровенно враждебных) — мне ведь пришлось защищать свою книгу и перед семинаром, высшим авторитетом которого является знаменитый ниспровергатель Запада и «малого народа» Игорь Шафаревич, и дискутировать на «Эхе Москвы» с секретарем ЦК КПРФ по идеологии — апеллировал я исключительно к здравому смыслу. Примерно так.
Вот сидим мы здесь с вами и совершенно свободно обсуждаем самые, пожалуй, важные сегодня для страны вопросы. В частности, почему и после трагедии 1917 года Россия снова — по второму кругу — забрела в тот же неевропейский исторический тупик, выйти из которого без новой катастрофы оказалось невозможно. И, что еще актуальнее, почему и нынче, судя по вашим возражениям, готова она пойти все тем же неевропейским путём — по третьему кругу? Задумались ли вы когда-нибудь, откуда он, этот исторический «маятник», два страшных взмаха которого вдребезги разнесли сначала белую державу царей, а затем и её красную наследницу?
Не правда ли, продолжал я, здесь монументальная, чтобы не сказать судьбоносная, загадка? Не имея возможности свободно её обсуждать, как мы её разгадаем? А не разгадав, сможем ли предотвратить новый взмах рокового «маятника»? Так вот я и спрашиваю, есть ли у нас с вами гарантии, что, скажем, и через пятнадцать лет и через двадцать сможем мы обсуждать эту нашу жестокую проблему так же свободно, как сегодня? Нет гарантий? Тогда объясните мне, почему в Европе они есть, а у нас их нету?
Так что же на самом деле мешает нам стремиться стать частью этой «Европы гарантий»?
«Климатическая» закавыка
Признаться, вразумительных ответов на эти элементарные вопросы я так и не получил. Если не считать, конечно, темпераментных тирад профессора В.Г. Сироткина (и его многочисленных единомышленников). Два обстоятельства, полагают они, закрывали (и закрывают) России путь в Европу — климат и расстояния. Прежде всего «приполярный характер климата: на обогрев жилищ и обогрев тела (еда, одежда, обувь) мы тратим гораздо больше, чем европеец. У того русской зимы нет, зато на 8о% территории Франции и 50 % Германии растет виноград. Добавим к этому, что 70 % территории России — это вариант «Аляски», [где] пахотные культивированные земли занимают всего 13-15% (в Голландии, например, культивированных земель, даже если на них растут тюльпаны, — 95 %)». Та же история с расстояниями: «второе базовое отличие от Европы — то, что там ю км., в Европейской России — юо, а в Сибири и все 300».3 Иначе говоря, география — это судьба.
Введение
Все вроде бы верно. Опущена лишь малость. Россия в дополнение ко всему сказанному еще и богатейшая страна планеты. И черноземы у неё сказочные, и пшеница лучшая в мире, и лесов больше, чем у Бразилии, Индии и Китая вместе взятых, и недра — от нефти и газа до золота и алмазов — несказанно богаты. Сравнить ли её с Японией, недра которой вообще пусты? Или с Израилем, где при вековом господстве арабов были одни солончаки да пустыни? Но ведь ни Японии, ни Израилю не помешала неблагодарная география обзавестись гарантиями от произвола власти. При всех климатических и прочих отличиях от Европы умудрились они как-то стать в известном смысле Европой. Так может, не в винограде и не в тюльпанах здесь дело?
И вообще популярный миф — будто холодный климат мешает России конкурировать на равных с соперницами, к которым гео-
б.Г. Сироткин. Демократия по-русски, M., 1999, с. 6.
графия благосклонна, относится, скорее, к доиндустриальной эре, ко временам Монтескье. В современном мире северные страны более чем конкурентоспособны. Сравните, допустим, утонувшую в снегах Норвегию (ВВП на душу населения 54,360 долларов) с солнечной Мексикой (6.450). И даже ледяная Исландия (41,910) намного перегнала жаркий Ливан (5,880). А сравнивать, скажем, холодную Швецию (38,920) с горячей Малайзией (4,750) и вовсе не имеет смысла.
А что до российских расстояний, то, сколько я знаю, гигантские пространства между атлантическим и тихоокеанском побережьями едва ли помешали Соединенным Штатам добиться гарантий от произвола власти. Коли уж на то пошло, то, несмотря на умопомрачительные — по европейским меркам — расстояния, США оказались в этом смысле Европой задолго до самой Европы. Короче, похоже, что «расстояния» имеют такое же отношение к европейскому выбору России, как виноград или тюльпаны.
Другими словами, суть спора с В.Г. Сироткиным (я говорю здесь о нем лишь как о самом красноречивом из представителей «климатического» обоснования неевропейского характера русской государственности) сводится на самом деле к тому, определяет ли география судьбу страны. Сироткин уверен, что определяет. Рассуждения об «азиатском способе производства»4 и об «азиатско-византийской надстройке»5 пронизывают его статьи и речи.
Что, однако, еще знаменательнее, именно на этих рассуждениях и основывает он свои политические рекомендации: «рынок нужен... но не западно-европейская и тем более не американская его модель, а своя, евразийская (по типу нэпа) — капитализма государственного. Без деприватизации здесь, к сожалению для многих, не обойтись. Была бы только политическая воля у будущих государственников».6