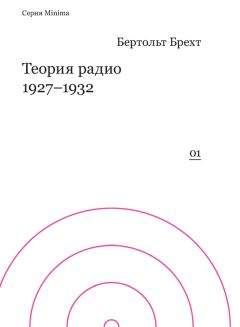шагов. Грохочущий, низкий, утробный рёв его слышен издали; и многие морские Охотники, живущие в Рифовых Гнёздах, равно как и те, кто видел Баалирскую Глотку лишь издали и из безопасной точки, например, с борта воздушного судна, — подскакивают ночами на ложе в липком, холодном поту, разбуженные кошмарами об этом жутком месте.
…как выглядит самая середина Валисагго?
О, почти идиллически. Облачные колонны как будто бы заранее расступаются, расчищая препятствия для взгляда, распахивая относительно прозрачный, хоть и немного мутноватый простор. Лёгкая дымка вуалирует происходящее вдали — но то, что ближе шести-восьми тысяч шагов, хотя бы в самых общих чертах видно неплохо.
Если подняться на летающем судне повыше, оценивая панораму в целом, глазу откроется серо-стальная поверхность моря с семью синими полосами. В широких промежутках между этими полосами, устремляясь прочь от аномалии и понемногу разглаживаясь, катятся пологие волны. А вот в пределах семи полос, давших Валисагго имя, волны есть тоже, но… неподвижные. Стоячие с самом буквальном смысле. Правда, из-за фона обычных, стремящихся от центра вдаль волн кажется, что стоячие в синеве водяные бугры медленно стекаются к центру тетрасекции. Конечно, это всего лишь оптическая иллюзия — но навязчивая, настигающая всякого наблюдателя, кем бы он ни был: хоть человеком, хоть алурином, хоть гномом — да хоть бы и мергилом!
В точке, куда «стремятся» синие линии, в истинном геометрическом и магическом сердце Валисагго, циклично бурлит нечто вроде подводного гейзера. На пике воды вспухают белопенным горбом, способным посрамить высотой небольшой холм, а площадью — несколько кварталов той же Стедды, взятых вместе. Шипение, гул, рокот! Но вскоре великанский «выдох» опадает, разглаживается, порождая очередную кольцевую волну, что отправляется в путешествие прочь от центра. Пенная шапка оседает и темнеет… но уподобиться обычной морской глади не успевает: снизу, распирая и дыбя поверхность воды, поднимается новый горб, в котором смешаны — и явно этим смешением недовольны — две подвижные стихии: вода и воздух.
Если около Ниртоса колебания Природной Силы меняли интенсивность фона от насыщенной зелени до бледно-оранжевого, то у сердца Валисагго фон пульсировал в диапазоне от бледно-оранжевого до густо-алого. Говоря проще, средняя интенсивность его позволяла одному из морских зверей четвёртого уровня развиться до младшего зверодемона — и даже, если бы разумные дали ему на то время, до старшего зверодемона. (Великие Морские Охоты, помимо прочего, такого времени не давали). Однако чем выше уровень, тем труднее совершить очередную эволюцию. К тому же площадь аномалии не так уж велика, а покидать её надолго зверодемон не способен.
Налицо противоречие — и препятствие для пытающихся возвыситься.
Узость. Порог.
Если верить легендам, Древнейший Кракен сумел выкрутиться из положения, развив в себе способность к Зову Глубин; одурманенная могучей магией чудовища, потенциальная пища сама плыла к его клюву, не в силах ни осознать неладное, ни воспротивиться своей печальной участи. Опытные, тёртые морские Охотники — и те, приблизившись к центру Валисагго слишком сильно, бывали покорены Зовом, после чего, совершив последнее в жизни погружение, пропадали в морских глубинах без следа. Находились и те, кто добровольно отправлялся в путь без возврата, считая Древнейшего Кракена наместником феттельнского бога морей, Нептьюнеса, или даже его прямой аватарой.
Подобная кончина считалась высшей жертвой, отворяющей верным прихожанам врата блаженства в таинственном царстве бога, находящемся разом и за облаками, и в бездне вод. И, разумеется, смерть чудовища в глазах фанатичных культистов стала святотатством, а подвиг Кракендаза для них являлся не подвигом, а наичернейшим деянием из возможных…
Что ж. Не удивительно, что примерно во время завершения первой Великой Морской Охоты и в последующие годы все, верующие в Нептьюнеса слишком уж рьяно, попали под каток репрессий, а культ этого божества получил мощнейший удар, оправиться от которого полностью ему оказалось не суждено ни спустя века, ни даже через тысячи лет.
Да и то сказать: что это за божество такое, чьего наместника (или аватару) способны убить владеющие пусть даже очень могучей магией — но всего лишь люди? После такого ореол сакральности и внушающего трепет высшего величия безо всяких репрессий угаснет, словно угли в прогоревшем до пепла костре…
— А ты что скажешь, уважаемый?
— О чём именно?
— О богах. Или, как большинство добившихся успеха магов, ты веришь исключительно в собственный резерв да гравированные чары?
— Ну, в свой резерв и свои чары я правда верю, — хмыкнул Мийол. — Они меня пока не подводили. Что до богов… я не верю, что им действительно нужна обрядовая сторона нашей веры.
— Почему?
— Да потому, что мана трансформируется в джаххану без нашего желания. Этот процесс полностью подчинён законам естества. Человек может спать или бодрствовать, молиться или же грешить, возвышать себя меж другими людьми или впадать в ничтожество — его душа всё равно продолжит преобразовывать джаххану одним лишь своим наличием. Точно так же, как наши тела из-за внутренних процессов превращения жизненных веществ выделяют тепло. Возможно, богам небезразлично существование человечества (хотя даже это тезис спорный, требующий отдельного доказательства) — но бытие конкретного человека, будь он хоть целым архимагом, для бога значит не больше, чем для человека — жизнь конкретного муравья… будь этот муравей хоть целой царицей в своём муравейнике.
— Оссименский прагматизм? — Ниртальвог приподнял брови, обозначая лёгкое удивление.
— Если угодно, да, — решительно кивнул призыватель. — Хотя, признаюсь, моя личная позиция по данному вопросу ближе к атеизму, чем к прагматизму.
— Атеизму? Которого из типов?
— Того, который отрицает существование сверхъестественного. Если коротко и без лишних подробностей, то я рассуждаю примерно так: есть реальный мир, и он вполне естественен. Часть мира для нас при этом понятна; часть — непонятна, но всё же постижима, в силу именно своей естественности. Если можно предположить существование чего-то истинно сверхъестественного, отстоящего от материальных явлений ещё дальше, чем джаххана и боги — а я совершенно не отрицаю такой возможности — то законы этих гипотетических мистерий за реалиями будут для нас уже совершенно непостижимы. И страшно далеки. Даже подтвердить либо опровергнуть наличие истинно мистериального — невозможно. За полным неимением каких-либо инструментов, кои можно было бы направить на решение такой задачи.
— А если разум возвысится и проникнет в эти области, ныне нам недоступные?
— Тогда и разговор пойдёт другой. Но сейчас я констатирую как простой логический факт: рассуждения о естестве осмысленны, постижение естества осмысленно, саморазвитие осмысленно. А вот попытки рассуждать о находящемся за пределами и естества, и постижения — пустая трата усилий нашего