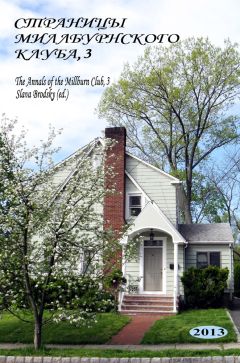Больше всего Пушкин любил гулять по Царскосельскому парку:
И часто я украдкой убегал And often on the sly I used to slip
В великолепный мрак чужого сада, In a forbidden garden’s splendid murk,
Под свод искусственный порфирных скал. Beneath the artificial purple cliffs.
Там нежила меня теней прохлада; In shadows’ cool I basked, an idle boy:
Я предавал мечтам свой юный ум, I gave my youthful mind up to my dreams
И праздномыслить было мне отрада. And idle musing was my greatest joy.
В поэме «Евгений Онегин» он вспоминал:
I. I.
В те дни, когда в садах Лицея Back then, when in the Lycée’s garden
Я безмятежно расцветал, I unrebelliously bloomed,
Читал охотно Апулея, Read keenly Apuleius charming,
А Цицерона не читал, Thought Cicero an old buffoon,
В те дни, как я поэме редкой Back then, when even a rare poem
Не предпочел бы мячик меткий, Meant less to me than balls well thrown,
Считал схоластику за вздор And I thought schoolwork was a bore,
И прыгал в сад через забор, Into the park the fence leaped o’er.
Когда порой бывал прилежен, When I at times could be quite zealous,
Порой ленив, порой упрям, Lazy at times, other times tough,
Порой лукав, порою прям. Sometimes quite cunning, sometimes gruff,
Порой смирен, порой мятежен. Subdued at times, at times rebellious,
Порой печален, молчалив, Sometimes so sad, in silence pent,
Порой сердечно говорлив, Sometimes heartfeltly eloquent,
II. II.
Когда в забвенье перед классом When, lost in trances before lessons,
Порой терял я взор и слух, I’d lose my sight, my hearing dimmed,
И говорить старался басом, Tried answering with new bass voice questions,
И стриг над губой первый пух, And shaved the first down off my lip,
В те дни…в те дни, когда впервые Back then…back then, when I first noted
Заметил я черты живые The traits and ways, with eyes devoted,
Прелестной девы и любовь Of maids enchanting, and when love
Младую взволновала кровь, Was always stirring my young blood,
И я, тоскуя безнадежно, And I, just sighing for love vainly,
Томясь обманом пылких снов, Thrashed in the wake of passion’s dreams,
Везде искал ее следов. I sought love everywhere, it seems,
Об ней задумывался нежно, And daydreamed just of love so gently,
Весь день минутной встречи ждал All day for one fleet meeting yearned,
И счастье тайных мук узнал. The joys of secret suffering learned.
III. III.
В те дни – во мгле дубравных сводов, Back then, ‘neath oak-groves’ arching sadness,
Близ вод, текущих в тишине, By waters flowing quietly,
В углах лицейских переходов In my Lyceum’s corner pathways
Являться муза стала мне. The Muse began to come to me.
Моя студенческая келья, My little student cell monastic,
Доселе чуждая веселья, Which, until now, had not known gladness,
Вдруг озарилась! Муза в ней At once was gleaming, and the Muse
Открыла пир своих затей; Laid there a feast of songs to choose.
Простите, хладные науки! Farewell to ye, cold sciences!
Простите, игры первых лет! I’m now from youthful games estranged!
Я изменился, я поэт, I am a poet now; I’ve changed.
В душе моей едины звуки Within my soul both sounds and silence
Переливаются, живут, Pour into one another, live,
В размеры сладкие бегут. In measures sweet both take and give.
IV. IV.
И, первой нежностью томима, Still of first tenderness a dreamer,
Мне муза пела, пела вновь My Muse could never sing enough
(Amorem canat aetas prima) (Amorem canat aetas prima)
Все про любовь да про любовь. All about love, and love, and love.
Я вторил ей – младые други I echoed her, and my friends youthful
В освобожденные досуги In leisured hours at ease, unrueful,
Любили слушать голос мой. Would love to listen to my voice.
Они, пристрастною душой How passionate their souls rejoiced
Ревнуя к братскому союзу, With zealous brotherly enthusing:
Мне первый поднесли венец, They first of all did laurels bring
Чтоб им украсил их певец To me, that for them I might sing
Свою застенчивую музу. The fruits of my still timid musing.
О, торжество невинных дней! Oh, joy of innocence of old!
Твой сладок сон душе моей. How sweet your dream is to my soul!
Преподаватели не были в восторге от его принципиального шалопайничества. Даже его любимый профессор Куницын жаловался на поэта: «Пушкин – весьма понятен, замысловат и остроумен, но крайне неприлежен». Пушкину, вместе с Пущиным и Малиновским, часто доставалось за юношеские проказы. За питье гоголь-моголя с ромом их наказали двухдневным лишением обеда и стоянием на коленях во время молитв – тщетно. «Писал он везде, где мог, а всего более в математическом классе».
Самая первая сохранившаяся рукопись стихотворения Пушкина – уже о любви: «К Наталье» было написано в 1813 году молодой актрисе из крепостного театра графа Толстого. Первая публикация Пушкина вышла в 1814 году – и даже тут друзья пошутили: тайком отправили его рукопись «Другу-стихотворцу» в журнал «Вестник Европы» за подписью «Н.К.Ш.П.» (то есть «Пушкин» наоборот).
В 1815 году Пушкин декламировал свои «Воспоминания в Царском Селе» на экзамене по русской литературе. Присутствовал самый известный в то время поэт России Гавриил Державин. «Когда дошел я до стиха, где упоминаю имя Державина, голос мой отрочески зазвенел, а сердце забилось с упоительным восторгом.… Не помню, как я кончил свое чтение, не помню, куда убежал. Державин был в восхищении: он меня требовал, хотел меня обнять… Меня искали, но не нашли…»
Но парадокс! «Ленивец» Пушкин написал более 120 стихотворений в лицейские годы (более двадцати обращены к фрейлине Екатерине Бакуниной: «Певец», «Дориде», «Друзьям»). В Лицее он также начал поэму «Руслан и Людмила».
На последнем году обучения Пушкин довольно часто прогуливал уроки, чтобы общаться с гусарами, чьи полки располагались недалеко от Екатерининского дворца. И эти проказы способствовали его развитию – помимо застолий было много пламенных политических бесед. Одним из этих гусаров был Петр Чаадаев, проницательный критик самодержавия и крепостного права, который познакомил молодого поэта с английским языком, философией Локка и Юма и свободолюбивой лирикой Байрона. Вместо того чтобы «заниматься как положено», Пушкин сам себя образовывал – встречался и с великим русским историком и сентиментальным романистом Николаем Карамзиным (и его женой Екатериной Андреевной, которую некоторые считают «утаенной любовью» Пушкина).