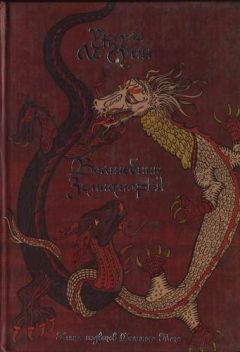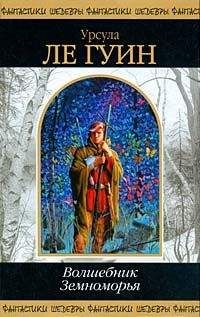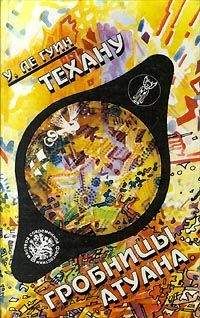Берри поклонился и пробормотал что-то невнятное. Глаза его смотрели тупо. Казалось, он чем-то одурманен или отравлен. Когда он снова вышел из комнаты, женщина подошла к Ириотху и сказала тихо, но твердо:
— Берри, он вообще-то неплохой, только пьет сильно, весь насквозь спиртным пропитался. Винище-то ему все мозги и съело, а также — почти все наше добро в доме. Так что, господин мой, сам понимаешь: лучше тебе спрятать денежки туда, где их Берри найти не сможет! Искать-то деньги он, пожалуй, не станет, но уж если увидит, так точно пиши пропало! Да он зачастую и не соображает, что делает.
— Да, — сказал Ириотх, — я понимаю. А ты — добрая женщина. — Ему казалось, что Гифт говорит не о брате, а о нем, о том, что это он не соображает, что делает. И прощает его. — И добрая сестра. — Подобные слова были для него совершенно непривычными, он никогда раньше не произносил таких слов, они даже в голову ему не приходили. На мгновение он даже подумал, что произносит их на Языке Созидания, но это было невозможно: говорить на этом языке вслух он права не имел. А Гифт в ответ только пожала плечами и хмуро улыбнулась.
— Мне порой этому дурню просто голову оторвать хочется, — сказала она незло и вернулась к своей работе.
Ириотх понятия не имел, насколько он измучен и устал, пока не оказался в этом доме. Весь день он просидел у очага в обществе серого кота, погрузившись в полудремоту, а Гифт сновала туда-сюда, занимаясь привычными делами, и несколько раз предлагала ему поесть — то была грубоватая и довольно убогая пища, но он съедал все, съедал медленно, наслаждаясь каждым глотком. С наступлением вечера ее братец снова ушел, и она сказала со вздохом:
— Ну вот, теперь он заново счет в таверне откроет: вся деревня уже знает, что у нас постоялец есть. Но это я не к тому, господин мой, что ты виноват в чем-то…
— Да нет, — возразил Ириотх, — я, конечно же, виноват! — Но она на него не сердилась, да и серый кот теплым боком привалился к его бедру и спал. И кошачьи сны проникли в его душу — низменные луга, где он разговаривал с той коровой, какие-то затянутые пеленой сумерек места… Кот скользнул туда, и Ириотх вдруг почувствовал запах и вкус молока, и его охватило какое-то глубокое, пронзительно нежное чувство. А вот чувство вины исчезло совсем, осталось лишь ощущение полнейшей невинности. И еще там не было никакой необходимости в словах. И уж там бы они его ни за что не нашли! Ведь отсюда-то он бы исчез, и здесь не было бы никого, кроме женщины, спящего кота и потрескивающего пламени в очаге. Он поднялся по черным тропам мертвой горы и оказался среди зеленых пастбищ, где неторопливо бежали живые ручьи…
Он, конечно же, был не в своем уме, и Гифт понять не могла, как это ей в голову пришло позволить ему остаться, и все же она не чувствовала по отношению к нему ни страха, ни недоверия. А впрочем, какая разница, даже если у него и с головой что-то не в порядке? С ней он был очень вежлив и любезен и, наверное, был когда-то настоящим волшебником, прежде чем с ним что-то там приключилось. Ну и ладно. Не сумасшедший же он, в конце концов. Он действительно бывает как бы безумен — но только изредка, в отдельные моменты. И ничего-то в нем целого, даже его безумие какое-то непостоянное! Он, например, не смог вспомнить то имя, Чайка, которым сперва назвался ей, и велел людям в деревне называть его Отаком. Он, возможно, и ее имя не сумел запомнить; во всяком случае, он всегда называл ее только «хозяйкой» или «хозяюшкой». А может, это он просто из вежливости? Она-то ведь тоже из вежливости по-прежнему обращалась к нему «господин мой», тем более что такие имена, как Чайка или Отак, ему совершенно не подходили. Она слышала, что отак — это такой маленький зверек с острыми зубами и очень молчаливый, но на Верхних Болотах таких зверьков не водилось.
Гифт подумала даже, что все разговоры ее постояльца о том, что он явился сюда, чтобы лечить скот от страшной болезни, — это тоже одно из свидетельств его помешательства. Он вел себя совсем не так, как прочие целители, которые всегда тащили с собой целый мешок всяких снадобий и целебных мазей для животных, а также хвалились, что знают «особые» заклятия. А этот, отдохнув пару дней, спросил ее, где ему найти хозяев скота, и ушел, надев старые башмаки Брена и прихрамывая, потому что его стертые и израненные ступни зажить еще не успели. У нее прямо сердце сжалось, когда она увидела, как сильно он хромает.
Вернулся он только вечером, хромая еще сильнее, потому что Сан, разумеется, потащил его прямо на Долгий Луг, где паслась большая часть его бычков. В деревне ни у кого не было лошадей, только у Олдера, и эти лошади были предназначены исключительно его собственным пастухам. Гифт подала своему постояльцу чистое полотенце и налила в таз горячей воды, велев ему хорошенько отмыть и отогреть израненные замерзшие ноги, а потом подумала немного и спросила, не хочет ли он и сам вымыться, и он очень даже захотел. Так что они нагрели воды и налили в старую бочку, и она ушла к себе в комнатку, пока он мылся у очага. Когда Гифт вышла оттуда, все было уже убрано, пол вытерт насухо, а полотенца аккуратно повешены над очагом. Она никогда не видела, чтобы кто-то из мужчин занимался уборкой, и тем более не ожидала этого от своего постояльца: ей все время казалось, что в прошлом он был человеком богатым и знатным. Неужели там, откуда он пришел, у него не было слуг? Да и вообще — беспокойства от него было не больше, чем от ее серого кота. Он сам стирал себе одежду и даже простыни, на которых спал, однажды выстирал и развесил на солнышке, так что она даже и заметить не успела, когда он все это сделал.
— Ну а за стирку-то ты чего принялся, господин мой? — удивилась она. — Я бы заодно со своим и твое все постирала!
— Незачем, — ответил он с тем отстраненным видом, как если бы не совсем понимал, о чем она ему толкует; но потом прибавил: — У тебя и так слишком много дел.
— А у кого их мало, господин мой? Да к тому ж мне нравится сыры делать. Интересное это дело. А я сильная! Я боюсь только одного: старости, когда уж не смогу поднимать ведра с молоком и формы для сыра. — И она показала ему свои полные крепкие руки, сжала кулак, демонстрируя мускулы, и улыбнулась. — Вон какая я сильная! А ведь мне уже пятьдесят! — Было довольно глупо хвастаться своим возрастом, но она гордилась тем, что сохранила и силу в руках, и энергию, и мастерство.
— Вот и хорошо! — сказал он.
А уж с ее коровами как он замечательно обходился! Когда он по ее просьбе помогал ей в коровнике, заменяя Берри, то — как она, смеясь, рассказывала своей подружке Тауни — коровы слушались его лучше, чем старого пастушьего пса Брена. «Он с ними разговаривает, и, клянусь, они понимают, что он им говорит!» — восхищалась Гифт. Она не знала, как он там, на верхних пастбищах, лечит бычков, но все хозяева отзывались о нем очень хорошо. Хотя, конечно, они-то готовы были ухватиться за любое предложение о помощи. У Сана погибла уже половина стада. Олдер даже и сказать не мог, сколько голов скота он уже потерял. Туши мертвых животных валялись повсюду. Если бы не холода, все Болота давно провоняли бы тухлятиной. Воду сырой пить было невозможно, ее необходимо было кипятить в течение часа; чистой оставалась вода только в двух глубоких колодцах — в усадьбе Гифт и в том колодце, где бил родник, давший деревне ее название.
Однажды утром к ней во двор прискакал верхом один из пастухов Олдера, ведя в поводу оседланного мула.
— Господин Олдер сказал, что господин Отак может взять этого мула, потому что до Восточного Пастбища отсюда миль десять-двенадцать, — сказал молодой пастух.
Утро было ясное, но болота скрывала сияющая дымка испарений. Вершина Анданден словно плыла над этой туманной дымкой и, казалось, то и дело меняла свою форму на фоне северного края небес.
Целитель ничего не ответил пастуху, а направился прямиком к мулу или, точнее, к лошаку, поскольку это был отпрыск большой ослицы, принадлежавшей Сану, и белого жеребца из конюшни Олдера. Молоденький лошак был симпатичным белоснежным животным с приятной мордой. Отак подошел к лошаку и с минуту что-то шептал ему прямо в изящное ухо, ласково почесывая лоб животного.