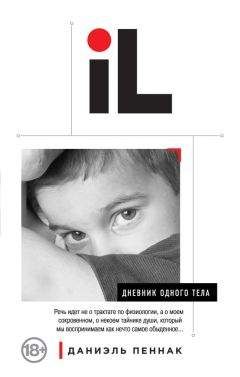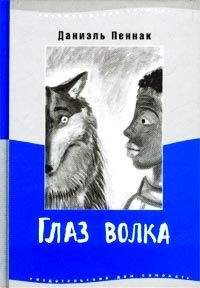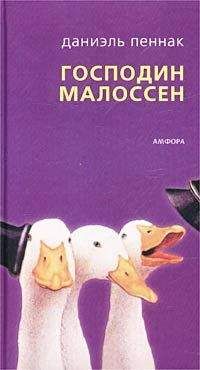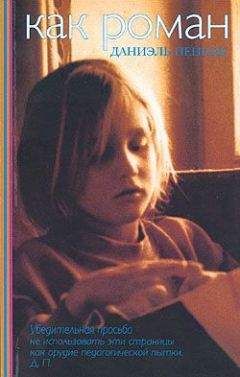Так вот, значит, как: Тижо, который обычно так умеет владеть собой, пал жертвой «первого раза», которыми наше тело пугает нас до самой смерти. Кроме всего прочего, эта история дала мне повод вспомнить губчатые говяжьи языки, которыми нас регулярно кормили в пансионе, подавая их вместе с зеленоватыми коровьими лепешками из раскисшего шпината. Случалось, мы швырялись этими языками и лепешками, устраивая незабываемые потасовки, за которыми следовала кара, не имевшая на нас никакого воздействия. Хохотали до упаду – чудесные воспоминания. При которых я и сегодня хихикаю под одеялом. О чем ты, спрашивает Мона.
…
Навел справки: такой язык – как шкура старого кита – называется «обложенный».
* * *
72 года, 2 месяца, 2 дня
Вторник, 12 декабря 1995 года
Некоторые болезни внушают нам такой страх, что благодаря им мы легче переносим все остальные. Люди моего поколения часто склонны ждать худшего, чтобы легче было принимать то, что на самом деле выпадает им на долю. Вчера опять за столом у В. обсуждали диагноз Т.С. Сначала опасались, что у него болезнь Альцгеймера, но, к счастью, это оказалась всего лишь депрессия. Слава богу! Честь сохранена. Т.С. от этого в старости не станет умнее, но, по крайней мере, никто не будет говорить, что его доконал злодей Алоис. Я посмеиваюсь про себя, хотя эта тема и меня волнует. Я бы скорее умер, чем признался в этом, но перспектива Альцгеймера (я, естественно, думаю об Этьене, которому становится все хуже) пугает меня, как и всякого другого. И все же у этого страха есть свой плюс: он отвлекает меня от того, чем я действительно страдаю. У меня неважный уровень сахара, креатинин далек от нормы, шум в ушах досаждает все больше и больше, катаракта замутняет горизонт, каждое утро я просыпаюсь с новой болью – короче говоря, старость идет в наступление по всем фронтам, но единственное, чего я боюсь по-настоящему, это Алоис Альцгеймер! Боюсь настолько, что каждый день заставляю себя делать упражнения для тренировки памяти, которые мои близкие принимают за развлечение эрудита. Я могу пересказать наизусть огромные куски из моего любимого Монтеня, из «Дон-Кихота», из старика Плиния или из «Божественной комедии» (на языке оригинала, прошу заметить!), но стоит мне забыть о какой-нибудь встрече, засунуть куда-то ключи, не узнать мсье такого-то, споткнуться на чьем-то имени или потерять нить разговора, как передо мной тут же встает грозный призрак старика Алоиса. Я могу сколько угодно уговаривать себя, что моя память всегда отличалась капризным нравом, что она подводила меня, еще когда я был ребенком, что я такой, какой есть, – бесполезно. Убежденность в том, что Альцгеймер все же меня поймал, сильнее любых увещеваний, и вот я уже вижу себя в недалеком будущем на последней стадии болезни, утратившим связь с миром и с самим собой, – живая вещь, забывшая, что она когда-то была одушевленной.
Ну а пока с меня требуют стихотворение на десерт, и я читаю его, дав себя, конечно, поуговаривать, это уж как водится. Ах, ну вам-то, по крайней мере, Альцгеймер не грозит!
* * *
72 года, 7 месяцев, 28 дней
Пятница, 7 июня 1996 года
Фредерик, врач, любовник и преподаватель Грегуара в интернатуре, жалуется, что не может спокойно поужинать вне дома: сотрапезники сразу же забрасывают его вопросами о собственном здоровье. Не было еще ни одной вечеринки, на которой половина приглашенных не попросила бы его поставить диагноз, назначить лечение, дать совет или рекомендацию для них самих или их близких. Он в отчаянии. С тех пор как я стал врачом, говорит он, даже еще не врачом, а только студентом, никто ни разу не спросил меня, чем я интересуюсь помимо игры в доктора! Дело дошло то того, что он стал бояться выходить в люди. Если бы не Грегуар, у которого совсем другие намерения на этот счет, он сидел бы взаперти у себя дома, потому что… (на этом месте он проводит ладонью у себя над головой) достало, дальше некуда! Он говорит, что за столом врач превращается в этакого шамана. Когда люди видят врача, который ест и пьет как простой смертный, они проникаются к нему братскими чувствами, он становится своим – колдуном племени ипохондриков, гуру всех этих дам. Такой замечательный доктор – и такой человечный, такой простой! – мы встречали его у такого-то, помнишь, милый? В больнице, говорит Фредерик, в глазах тех же самых людей – именно тех же самых – я прежде всего кандидат в большие начальники, только и думающий о том, как бы запустить руку в бюджет, чтобы пополнить свою коллекцию «Порше». За столом же – совсем другое дело, за столом я – сама медицина, респектабельный, знающий и гуманный врач. Если вы хирург и с вами познакомились где-то в гостях, за вами будут таскаться повсюду как на привязи до самого операционного стола, а потом любезно рекомендовать друзьям и знакомым, потому что врач – это как варенье: лучше домашнего не найдешь! Когда я вижу, как мои практиканты надрываются на дежурствах, мне хочется крикнуть им: Валите отсюда, идите поужинайте где-нибудь в ресторане, карьеры делаются именно там, а не в ординаторской! Вот так Фредерик распаляется добрую часть ужина, затем встает из-за стола и обращает ко мне насмешливо-ядовитый взгляд: Ну а как ваши дела? Как здоровье? В порядке? Не стесняйтесь, пользуйтесь моментом, пока я здесь!
* * *
72 года, 7 месяцев, 30 дней
Воскресенье, 9 июня 1996 года
Грегуар – гомосексуалист. Я могу обладать какой угодно «широтой взглядов» («широта взглядов» – какое узкое, одностороннее выражение!), но когда речь заходит о гомосексуализме, мое воображение отказывает. Если мои принципы и допускают это, мое тело никак не может постичь: как это – желать себе подобного? Грегуар – гомосексуалист, пускай, все равно это наш Грегуар, он может делать, что хочет, вопрос о его предпочтениях даже не стоит, но тело Грегуара, получающее наслаждение от другого мужского тела, – вот чего бедный разум моего собственного тела, если можно так сказать, никак не может постичь. Не содомию, нет. Мы с Моной тоже не чурались анального секса, и это приводило нас в восторг, а каким прелестным мальчиком она была тогда! Но в том-то и дело, что она не была мальчиком. Засыпая, думаю о Грегуаре и его гомосексуальности… Или, вернее, перестаю об этом думать. Загадка расползается на нити, превращаясь в ткань окутывающего меня сна.
* * *
72 года, 9 месяцев, 12 дней
Понедельник, 22 июля 1996 года
Я – один в саду, меня отрывает от чтения пение птички, названия которой я, к великому огорчению, не знаю. То же можно сказать и почти обо всех окружающих меня цветах, о некоторых деревьях, о большей части облаков и об элементах, составляющих этот комок земли, который я разминаю пальцами. Ничего из этого я не могу назвать. Работа на ферме в дни моей юности не дала мне почти никаких знаний о природе. Правда, я занимался ею только для того, чтобы накачать себе мышцы. А то немногое, что я узнал, я забыл. Короче говоря, я настолько цивилизовался, что у меня не осталось элементарных знаний! И в тишине этого невежества щебечет птичка, оторвавшая меня только что от чтения. Впрочем, я слушаю не столько ее щебет, сколько саму тишину. Наиполнейшую. И тут возникает вопрос: а где же мой тиннитус, где мой шум в ушах? Прислушиваюсь внимательнее: нет шума, только птичий щебет. Затыкаю уши, чтобы послушать, что делается внутри черепа. Ничего. Тиннитус пропал. В голове пусто, только легкое гуденье от надавливания пальцами – как будто приложил ухо к бочке. А бочка-то пустая, абсолютно. В ней нет ни шума, что радует, ни элементарных знаний, что огорчает. Снова берусь за свою ученую книжку, чтобы в голове стало еще более пусто.
* * *
72 года, 9 месяцев, 13 дней
Вторник, 23 июля 1996 года
Шум в ушах, конечно, вернулся. Когда? Не знаю. Ночью он уже был тут как тут, насвистывал в разгар бессонницы. Я ему даже почти обрадовался. Все эти болячки, которые так пугают нас при появлении, становятся для нас больше чем спутниками, они – это мы сами. В былые времена в деревнях людей так и называли – по их болезням: зобастый, горбатый, лысый, заика. То же самое в школе в моем детстве, среди ребят: толстяк, косой, глухня, хромой… От этих физических изъянов, воспринимавшихся как данность, в Средневековье появились фамилии. Все эти Курткюис (Короткая Нога), Легра (Жирный), Петипьер (Коротышка Пьер), Грожан (Толстый Жан), Леборнь (Кривой) и пр. и сегодня разгуливают по нашим улицам. Интересно, а какое прозвище эта грубая средневековая народная мудрость дала бы мне? Лесифлёр? Дюсифле? [36] Папаша Дюсифле? Пусть будет папаша Дюсифле. Вы знаете, у него в голове свисток! Смирись с тем, что ты есть, Дюсифле, и да прославится твое имя.
* * *
72 года, 9 месяцев, 14 дней