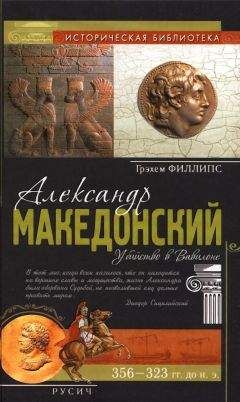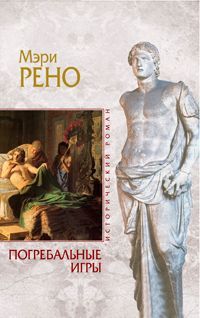Тогда-то из разговора дворцового управляющего с одним из евнухов она и узнала, что Александр уже девятый день лежит в постели, подхватив болотную лихорадку. Тут же выяснилось, что болезнь поразила легкие царя, что конец его, похоже, близок и что дочь Дария ждет ребенка.
Роксана не стала даже дослушивать их. Мгновенно кликнула она своих служанок и бактрийского евнуха, накинула на себя покрывало и пронеслась мимо оцепеневшего нубийского увальня, охранявшего вход в гарем, ответив на его пронзительные вопли лишь одно: «Я должна видеть царя!»
Дворцовые евнухи мигом всполошились. Но им не оставалось ничего другого, как только бежать за ней. Она была царской женой, а не пленницей и постоянно торчала в гареме исключительно потому, что покинуть его считала немыслимым. Где бы царь ни разбивал лагерь во время долгого перехода из Индии в Персию, а также по дороге сюда, в Вавилон, багажные повозки Роксаны распаковывались и вытаскивались плетеные ширмы, образующие походный замкнутый дворик, куда она выходила подышать воздухом из своего фургона. В городах в ее распоряжении обычно имелся занавешенный паланкин или балкон, зарешеченный и укрытый от взоров. Никто, собственно, не ограничивал ее свободу, но она предпочитала уединение. Только шлюхи выставляют себя перед мужчинами напоказ. Но сейчас никому не остановить ее. Сопровождаемая трясущимся евнухом и изумленными взглядами царедворцев, царица мчалась по коридорам через цепь внутренних двориков и разного назначения залов к царским покоям. Она впервые на это осмелилась; вернее, если уж на то пошло, вообще впервые приближалась к его личной опочивальне. Он никогда не приглашал ее к себе, приходил сам, когда считал нужным. По его словам, таковы были греческие традиции.
Замерев на мгновение в высоком дверном проеме, она окинула взглядом широкий цвета кедрового дерева полог над охраняемой глазастыми демонами кроватью. Опочивальня напоминала приемный зал. Тупо воззрившиеся на нее полководцы, лекари и придворные расступились, пропуская царицу к царю.
Лежа на горке поддерживающих его спину подушек, он вовсе не выглядел немощным. Закрытые глаза, приоткрытый Рот и хриплое дыхание, казалось, просто свидетельствовали, что им овладела дремота. В общем, увидев мужа, Роксана предположила, что он еще полностью владеет собой.
— Искандер! — воскликнула она, невольно переходя на свой родной язык. — Искандер!
Сморщенные и бескровные веки в запавших глазницах слегка дрогнули, но не разошлись. Скорее, он даже еще сильнее зажмурился, словно бы защищаясь от ослепительного солнечного света. Тут только она заметила, что его губы потрескались и пересохли, а большой шрам на боку от полученной в Индии глубокой раны болезненно пульсирует в неровном ритме.
— Искандер, Искандер! — громко взывала она, схватив его за руку.
Он вздохнул поглубже и закашлялся. Кто-то склонился к нему с полотенцем, отер кровавую слюну с губ. Глаза больного так и не открылись.
И тогда с холодящей пронзительной ясностью она вдруг осознала гораздо больше того, что открылось ей из подслушанного разговора. Его конец действительно близок, он больше не будет вести ее за собой в земной жизни. Отныне он в этом мире уже ничего не решает, возможно, даже не сможет ответить на интересующий ее вопрос. Для нее и для ее будущего ребенка его уже нет.
Она принялась стенать и бить себя в грудь, точно плакальщица над похоронными носилками, царапая лицо, разрывая одежды и встряхивая растрепавшимися волосами. Потом рухнула на колени перед кроватью и, зарывшись лицом в простыню, обхватила тело мужа руками, едва ли чувствуя, что плоть под ладонями еще горяча. До нее вдруг донесся чей-то голос. Мягкий, молодой.
— Он все слышит, это усугубляет его страдания.
Голос евнуха!
Чьи-то сильные руки сжали ее плечи, оттащили назад. Это был Птолемей, она узнала его, ибо не раз его видела, наблюдая за триумфальными шествиями из-за своих занавесей и решеток, но голос принадлежал не ему, и Роксана пристально посмотрела на юношу, стоявшего с другой стороны кровати. Ей не составило труда узнать и его, несмотря на то что она имела возможность взглянуть на него лишь однажды, в Индии: тогда он стоял рядом с Александром на палубе флагманской спускавшейся вниз по Инду галеры, облаченный в отделанный золотом алый наряд из таксильской ткани. Это был он, ненавистный персидский мальчик, хранитель царской опочивальни, куда ее никогда не пускали. Видимо, он тоже имел отношение к чему-то исконно греческому и такому, о чем она даже и не пыталась заговаривать с мужем.
Царского фаворита не изменило ни скромное облачение, ни осунувшееся изможденное лицо. Понятно, лишившись очарования, он решил вдосталь натешиться властью. Всем полководцам, сатрапам, чиновникам, собравшимся здесь, в первую очередь следовало помочь ей выяснить у царя, кто станет его наследником, но они молчали и смиренно слушали этого вертлявого плясуна. А к ней отнеслись как к незваной гостье.
Роксана прокляла молодого евнуха взглядом, но тот, уже не обращая на нее внимания, отдал услужливо подскочившему рабу окровавленное полотенце и взял чистое из лежавшей рядом с ним стопки. Хватка Птолемея ослабла, и руки слуг, мягкие, умоляющие, настойчивые, повлекли ее к двери. Кто-то забрал с кровати чадру, накинул ей на голову.
Вновь оказавшись в своих покоях, она бросилась на тахту и, колотя и взбивая кулаками подушки, разразилась яростными рыданиями. Осмелившиеся заговорить с ней служанки умоляли ее поберечь себя, чтобы не потерять ребенка. Тогда она опомнилась и велела принести кобыльего молока и инжира, которые в последнее время стали ее любымими лакомствами. Спустились сумерки, а Роксана все еще беспокойно ворочалась на своем ложе. Наконец она встала с застывшими глазами и, топча пятна лунного света, принялась расхаживать по внутреннему дворику, где фонтан, словно заговорщик, бормотал что-то в горячей вавилонской ночи.
В ее животе вдруг взбрыкнул ребенок. Только один раз, но очень явственно, и, положив руки на свое чрево, она прошептала:
— Тише, мой маленький царь. Я обещаю тебе… я обещаю…
Она вернулась в кровать и забылась тяжелым сном. Ей снилась отцовская крепость на согдийской скале и оборонный, изрытый пещерами отвесный склон под самой вершиной, обрывающийся в тысячефутовую пропасть, снилось, что македонские воины их осадили. Она смотрела сверху на копошащихся внизу солдат, похожих на темные просыпанные на снег зерна, на красные сверкающие лагерные костры с легким дымком, на разноцветные пятна палаток. В скалах выл налетевший невесть откуда ветер. Брат позвал ее и остальных женщин прикреплять наконечники к стрелам, он встряхнул ее за плечо, упрекнув в лености. Роксана вздрогнула и проснулась. Служанка выпустила из рук ее плечо, но ничего не сказала. Роксана проспала долго, знойное солнце уже заливало двор. Однако ветер по-прежнему гудел за окнами; его порывы, то нарастающие, то убывающие, наполняли мир зимними завываниями, рождавшимися на просторах бесконечных восточных пастбищ, однако… здесь был Вавилон.
Здесь звуки гасли, а там они набирали силу… как вот сейчас, делаясь совсем близкими, превращаясь в стоны и причитания; наконец она распознала в них привычный обрядовый ритм. Женщины, увидев, что госпожа их проснулась, принялись голосить и стенать еще громче, бормоча зачин древних плачей, что с незапамятных времен известны вдовам бактрийских вождей. Они в ожидании смотрели на госпожу. Она должна была завести погребальную песнь.
Покорно поднявшись с кровати, Роксана распустила волосы и принялась бить себя в грудь кулаками. С детства знала она эти скорбные фразы: «Горе нам, горе, горе! Иссяк свет небесный, пал на землю отважный, словно лев, воин. Множество недругов трепетало, когда он вздымал меч, щедрая длань его источала злато, как песок море. Его радость озаряла нас, как солнечный свет. Подобно бушующей горной лавине, несся он со своими воинами на врагов, подобно урагану, что валит могучие деревья, валил он тех, кто осмеливался противостоять ему в битвах. Его щит служил прочной кровлей для соплеменников. Мрак стал его уделом, его дом погрузился в уныние. Горе нам! Горе нам! Горе!»
Она опустила руки на колени. Ее стоны умолкли. Служанки пораженно уставились на госпожу. Та сказала:
— Я оплакала его. Погребальная песнь закончилась.
Подозвав к себе старшую служанку, Роксана жестом велела остальным удалиться.
— Достань мой старый дорожный наряд, то темно-синее платье.
Его нашли на дне сундука и вытрясли пыль, набившуюся по дороге из Экбатаны. Ткань оказалась еще совсем крепкой; пришлось надрезать ее фруктовым ножичком, прежде чем разорвать. Понаделав достаточно дыр, Роксана натянула это траурное облачение. Побольше растрепала волосы и, проведя ладонью по пыльному подоконнику, испачкала себе лицо. Завершив все эти приготовления, она призвала своего бактрийского евнуха.