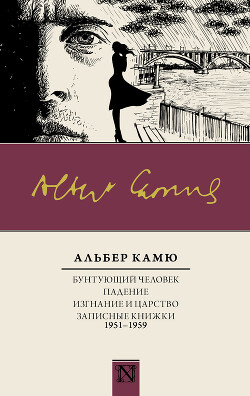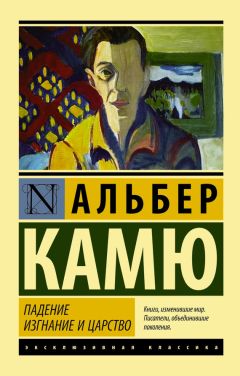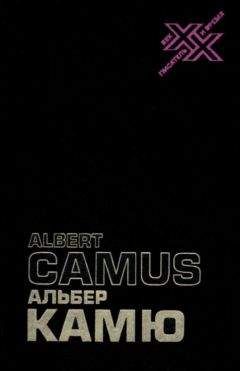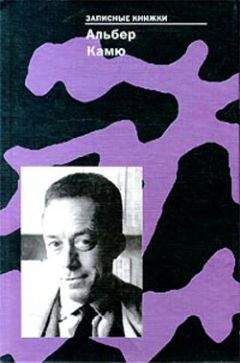Но от чего мы убегаем с помощью романа? От действительности, которая кажется нам чересчур гнетущей? Но ведь и счастливые люди читают романы, в то время как избыток лишения отбивает охоту к чтению. Кроме того, вымышленная вселенная не столь наглядна и весома, как та, где нам денно и нощно приходится отбивать натиск существ из плоти и крови. Отчего же, однако, Адольф [261] кажется нам куда более знакомым, чем Бенжамен Констан, [262] а граф Моска [263] убеждает сильнее присяжной моралистов? Однажды Бальзак закончил долгое рассуждение о политике и судьбах мира такими словами: "А теперь вернемся к более серьезным вещам". Под ними он подразумевал свои романы. Невозможно объяснить бегством от действительности неоспоримую серьезность создаваемого романистами мира и наше стремление принять всерьез бесчисленные мифы, вот уже два столетия предлагаемые нам романическим гением. Романическое творчество, бесспорно, предполагает известное отрицание действительности. Но отрицание это нельзя назвать простым бегством. Нужно ли видеть в нем тягу к уединению той прекрасной души, которая, согласно Гегелю, разочаровавшись в реальном мире, создает для себя мир иллюзорный, где царит одна только мораль? Однако назидательный роман остается вдалеке от большой литературы, и даже лучший из этих "розовых" романов, "Поль и Виргиния", [264] произведение по сути своей слезливое, не способен принести нам утешения.
Противоречие состоит в нижеследующем: отвергая реальный мир, человек вовсе не стремится бежать от него. Люди цепляются за мир и в подавляющем большинстве не спешат с ним расставаться. Эти диковинные существа, чувствующие себя изгнанниками на собственной родине, не только не стремятся забыть о мире, но, напротив, терзаются от желания обладать им все в большей и большей степени. За исключением мигов озарения, приоткрывающих всю полноту бытия, действительность предстает перед ними незавершенной. Их деяния ускользают от них, растворяясь в иных деяниях, а затем, приняв неожиданные обличья, вершат над ними суд и бегут, как воды от губ Тантала, [265] к неведомым устьям. Разведать эти устья, обуздать течение потока, постичь, наконец, собственную жизнь как судьбу — вот истинная цель людей, томящихся на собственной родине. Но это прозрение, которое хотя бы мысленно могло примирить их с самими собой, испытывается ими разве что в тот краткий миг, когда наступает смерть, подводящая итог всему. Чтобы хоть однажды ощутить свое бытие в мире, нужно быть готовым к бесповоротному небытию.
Отсюда берет начало злосчастное чувство зависти, испытываемое множеством людей по отношению к чужим жизням. Глядя на эти жизни со стороны, мы наделяем их цельностью и единством, которые не присущи им на самом деле, но кажутся неоспоримыми стороннему наблюдателю. Он видит только линию их вершин, не задумываясь о мелочах, которые подтачивают их основания. И тогда мы пытаемся воплотить эти существования в искусстве. Мы самым элементарным образом романизируем их. В этом смысле каждый стремится превратить собственную жизнь в произведение искусства. Мы хотим, чтобы любовь длилась вечно, хотя знаем, что это невозможно; а если даже каким-то чудом она и длится всю жизнь, то все равно остается недовершенной. Движимые этим ненасытным стремлением к беспредельности во времени, мы, быть может, лучше поняли бы смысл земных страданий, знай мы страдания вечные. Возможно, что сильные духом люди подчас ужасаются не столько страданиям, как таковым, сколько тому, что они не вечны. За неимением безмерного счастья бесконечные страдания могли бы по крайней мере стать нашей судьбой. Но нет, даже самым страшным нашим мытарствам положен предел. В один прекрасный день, уже вконец отчаявшись, мы вдруг ощущает необоримую жажду жизни, которая возвещает нам, что все кончено и что в страдании заключено не больше смысла, чем в счастье.
Страсть к обладанию — это всего лишь одна из форм стремления к беспредельности во времени; именно она порождает бессильный бред любви. Ни об одном существе, даже самом любимом и отвечающем нам еще более сильной любовью невозможно сказать, будто мы им обладаем. На этой жестокой земле, где любовники всегда рождаются врозь и часто умирают порознь, полное обладание любимым существом, абсолютное слияние в течение всей жизни выглядит непосильным требованием. Страсть к обладанию до такой степени ненасытна, что может пережить и саму любовь. Любить в таком случае — значит только обесплотить любимое существо. Постыдные страдания одинокого любовника объясняются тогда не столько сознанием того, что он больше не любим, сколько мыслью о том, что предмет его любви еще может и должен любить кого-то. В предельном случае каждый человек, снедаемый безумной страстью к беспредельности во времени и к обладанию, желает существам, которые он любил, бесплодия и смерти. Это и есть подлинный бунт. Кто хоть раз в жизни не требовал от всего сущего абсолютной девственности, изнемогая при этом от невыполнимости своего желания, кто, без конца терзаясь тоской по абсолюту, не губил себя попытками любить вполсилы, — тому не понять реальности бунта и его всесокрушающей ярости. Но сущее извечно ускользает от нас, как и мы от него, оно лишено четких очертаний. С этой точки зрения жизнь бесстильна. Она не более чем движение, безуспешно пытающееся угнаться за собственной формой. И раздираемый этими противоречиями человек столь же тщетно ищет форму, обозначающую пределы, в которых он чувствовал бы себя царем. Если бы хоть одно живое существо имело собственную форму, человек примирился бы с миром.
Нет в нем существа, которое, достигнув элементарного уровня сознания, не изнемогало бы в поисках формул или положений, которые придали бы его существованию недостающую цельность. Тщеславие и действие, денди и революционер — все стремится к цельности ради бытия — бытия в этом мире. Подобно тому как в трогательных и жалких последках любви один из партнеров подолгу ищет слово, жест или ситуацию, которые превратят его любовное приключение в законченную и точно сформулированную историю, каждый из нас пытается придумать или отыскать для себя ключевое слово. Нам недостаточно жить; нам надо, не дожидаясь смерти, обрести судьбу. Стало быть, мы вправе сказать, что человек имеет понятие о мире лучшем, чем тот в котором он живет. Но "лучший" в данном случае не значит "иной", а только более цельный. Желание, что возносит наше сердце над раздробленным миром, от которого оно, однако, не в силах целиком оторваться, является желанием единства. Оно выливается не в банальное бегство, а в упорство притязания. Любое человеческое усилие, будь оно религией или преступлением, в конечном счете повинуется этому безрассудному желанию, состоящему в том, чтобы придать жизни отсутствующую у нее форму. Тот же порыв, что может быть направлен на преклонение перед небесами или на уничтожение человека, приводит и к романическому творчеству, которому передается вся его серьезность.
И в самом деле, что такое роман, как не та вселенная, где действие обретает свою форму, где звучат ключевые слова, люди открывают друг другу свои души и каждая жизнь принимает обличье судьбы. [266] Мир романа — это не что иное, как поправка, внесенная в реальный мир согласно подспудным желаниям человека. Ибо это тот же самый мир, в котором мы живем, с его горем, ложью, любовью. У его героев — наш язык, наши слабости, наши сильные стороны. Их вселенная не более прекрасна и поучительна, чем наша. Но они, в отличие от нас, познают свою судьбу до конца. Нет более потрясающих образов, чем те, в которых воплощены люди, исчерпавшие свою страсть до предела, — Кириллов, Ставрогин, мадам Грослен, Жюльен Сорель или принцесса Клевская. Нам не по плечу их мерки, ибо они доводят до конца то, что мы никогда не в силах завершить.