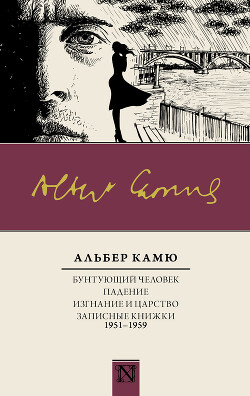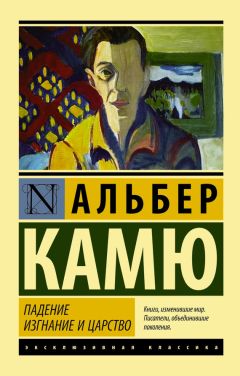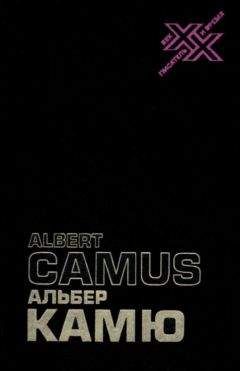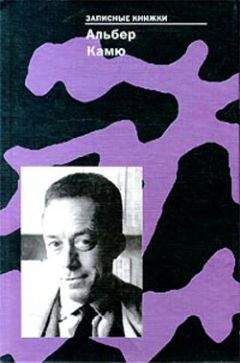Издавна убедив себя в том, что можно бороться против Бога в союзе со всем человечеством, европейский дух наконец-то понял, что во избежание собственной гибели ему надлежит заодно бороться и против людей. Бунтари, ополчившиеся против смерти во имя неистребимости рода человеческого, с ужасом узнали, что и они в свой черед вынуждены убивать, что отступление для них равносильно собственной смерти, а наступление — убийству других. Бунт, отвергший свои истоки и подвергшийся циничной перелицовке, всегда колеблется между самопожертвованием и убийством. Его правосудие обернулось самосудом. Царство благодати было уничтожено, но и царство справедливости рушится тоже. И вместе с ними гибнет обманутая Европа. Ее бунт был направлен в защиту невинности человека, а теперь она подавляет в себе чувство собственной вины. Метнувшись в сторону тотальности, она тут же получает в удел отчаянное одиночество. А возжелав стать сообществом, она должна год за годом собирать одиночек, порознь шагающих к единству.
Так следует ли отречься от любого бунта, либо приняв отжившее общество со всеми его несправедливостями, либо цинично решив направить против человека ускоренный ход истории? Если бы логика наших размышлений совпадала с трусливым соглашательством, мы смирились бы с ним, как иным семьям приходится подчас сносить неизбежный позор. Если же эта логика была бы призвана оправдать любые посягательства на человека и даже его систематическое истребление, нам оставалось бы только согласиться с подобным самоубийством. Чувство справедливости в конце концов нашло бы в нем свое оправдание: то была бы гибель мира лавочников и полицейских. Но живем ли мы до сих пор во взбунтовавшемся мире; не стал ли бунт всего-навсего оправданием новых тиранов? Можно ли содержащуюся в бунтарском порыве формулу "мы существуем" без всяких уловок и оговорок увязать с убийством? Положив угнетению предел, за которым начинается общее для всех людей достоинство, бунт определил свою первую ценность. Она основывалась в первую очередь на несомненной общности людей, на единстве их природы, на солидарности, рождающейся в цепях, на общении между людьми, на всем, что способствует их схожести и содружеству. Таким образом, она сделала первый шаг по направлению к духу, враждующему с абсурдным миром. Но бедствием этого прогресса было также и обострение проблемы, которую теперь ей приходится решать перед лицом убийства. Ведь если на уровне абсурда убийство порождает лишь логические противоречия, то на уровне бунта оно превращается в надрыв. Ибо речь идет о том, можно ли убить первого встречного, которого мы только что признали похожим на нас самих и тем самым освятили его неповторимость. Суждено ли нам, едва успевшим вырваться из одиночества, снова, и на этот раз окончательно, в нем оказаться, узаконив акт, отделяющий нас от всех? Принудить к одиночеству того, кто только что узнал, что он не одинок, — разве это не наихудшее преступление против человека?
Логически рассуждая, на все это нужно ответить, что убийство и бунт противоречат друг другу. Если хотя бы один господин будет убит бунтовщиком, этот бунтовщик лишится права взывать к общности людей, в которой он черпал свое оправдание. Если этот мир лишен высшего смысла, если человек может найти отклик лишь в душе другого человека, то достаточно одному напрочь изгнать другого из общества живых чтобы самому оказаться вне его. Убив Авеля, Каин бежит в пустыню. А когда убийц становится много, в пустыне оказывается все их скопище, живущее в скученности, которая куда хуже одиночества.
Нанося удар, бунтовщик раскалывает мир надвое. Восставший во имя тождества людей, он приносит его в жертву освящая рознь пролитой им кровью. Живя среди нищеты и угнетения, он всем своим существом стремился к этому тождеству. А теперь то же стремление отторгает его от бытия. Он может сказать, что кое-кто или почти все остались вместе с ним. Но если хоть одному существу не находится места в мире братства, можно считать, что этот мир обезлюдел. Если не существует нас, не существует и меня: этим объясняется бесконечная печаль Каляева и молчание Сен-Жюста. Бунтовщикам, решившимся пройти через насилие и убийство, вольно — чтобы сохранить надежду на бытие — заменять формулу мы существуем на мы будем существовать. Когда не будет ни убийц, ни жертв, общество устроится и без них. Когда изживет себя исключение, станет возможным правило. На историческом уровне, как и в личной жизни, убийство, таким образом, представляется либо отчаянным исключением, либо сущим пустяком. Надлом, совершаемый им в порядке вещей, лишен будущего, убийство — исключительно и поэтому никак не может быть использовано; его нельзя возвести в систему, как того хотелось бы чисто историческому мировоззрению. Оно — тот предел, которого можно достичь лишь единожды и вслед за тем умереть. У бунтовщика есть всего одна возможность примириться с актом убийства, уж коли он на него решился: принять свою собственную смерть, самому стать жертвой. Он убивает и умирает ради того, чтобы было ясно, что убийство невозможно. И тем самым доказывает, что, в сущности, предпочитает мы существуем формуле мы будем существовать. Таким образом объясняется тихая умиротворенность Каляева в тюрьме и безмятежность Сен-Жюста по дороге на эшафот. За этой последнем гранью начинаются противоречия и нигилизм.
НИГИЛИСТИЧЕСКОЕ УБИЙСТВО
Как иррациональное, так и рациональное преступления в равной степени предают ценность, явленную бунтарским движением И прежде всего — первое из них. Те, что все отрицают и дозволяют себе убийство, — Сад, денди-убийца, безжалостный Единственный, Карамазов, последыши разнузданного разбойника, стреляющий в толпу сюрреалист — все они добиваются, в сущности, стальной свободы, безграничного возвеличивания человеческой гордыни. Обуянный бешенством нигилизм смешивает воедино творца и тварь. Устраняя любое основание для надежды, он вбрасывает все ограничения и в слепом возмущении, затмевающем даже его собственные цели, приходит к бесчеловечному выводу: отчего бы не убить то, что уже обречено смерти.
Но эта цель — взаимное признание людьми общности их судьбы и их связи между собой — остается вечно живой. Она была провозглашена бунтом, который поклялся ей служить. Тем самым он определил правило морали, противостоящее нигилизму, — правило, которому нет необходимости ждать конца истории, чтобы осветить действие, и которое, однако, не является формальным. В противоположность якобинской морали бунт принимает во внимание то, что ускользает от правила и закона. Он открывает путь морали, отнюдь не подчиненной абстрактным принципам, а только открывающей их в мятеже, в непрестанном порыве отрицания. Ничто не говорит о том, что принципы эти существовали изначально и будут существовать вечно. Но они существуют сейчас, одновременно с нами. И на протяжении всей истории вместе с нами отрицают рабство, ложь и террор.
Между рабом и господином и впрямь нет ничего общего; с подневольным существом невозможно ни говорить, ни общаться. Вместо того естественного и свободного диалога, посредством которого мы признаем наше сходство и освящаем нашу судьбу, рабство навязывает людям чудовищную немоту. Несправедливость отвратительна для бунтаря не потому, что она противоречит вечной идее справедливости, неизвестно откуда взявшейся, а потому, что благодаря ей длится немая вражда, разделяющая угнетателя и угнетенного. Она уничтожает ту малость бытия, которая могла бы просочиться в мир благодаря людской сопричастности друг другу. Как лжец отлучает себя своей ложью от остальных людей, так оказывается отлученной и сама ложь, и вслед за ней — убийство и насилие, навязывающие нам окончательную немоту. Общение и сопричастность, открытые бунтом, могут существовать лишь в атмосфере свободного диалога. Каждая двусмысленность, каждая недоговоренность ведут к смерти; только ясная речь и простое слово спасают от нее. [278] Кульминация всех трагедий — в глухоте героев. Платон прав в споре с Моисеем и Ницше. Диалог на человеческом уровне обходится дешевле, чем евангелия тоталитарных религий, продиктованные в виде монолога с высот одинокой горы. На сцене, как и в жизни, за монологом следует смерть. Каждый бунтовщик, влекомый порывом, побуждающим его восстать против угнетателя, выступает, таким образом, в защиту жизни, объявляет войну рабству, лжи и террору и хотя бы на мгновение постигает что эти три разновидности зла поддерживают немоту между людьми, отгораживают их друг от друга и мешают им обрести самих себя в той единственной ценности, которая могла бы спасти их от нигилизма, — во всеобъемлющей сопричастности помогающей им в схватке с судьбой.