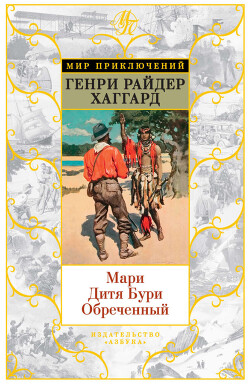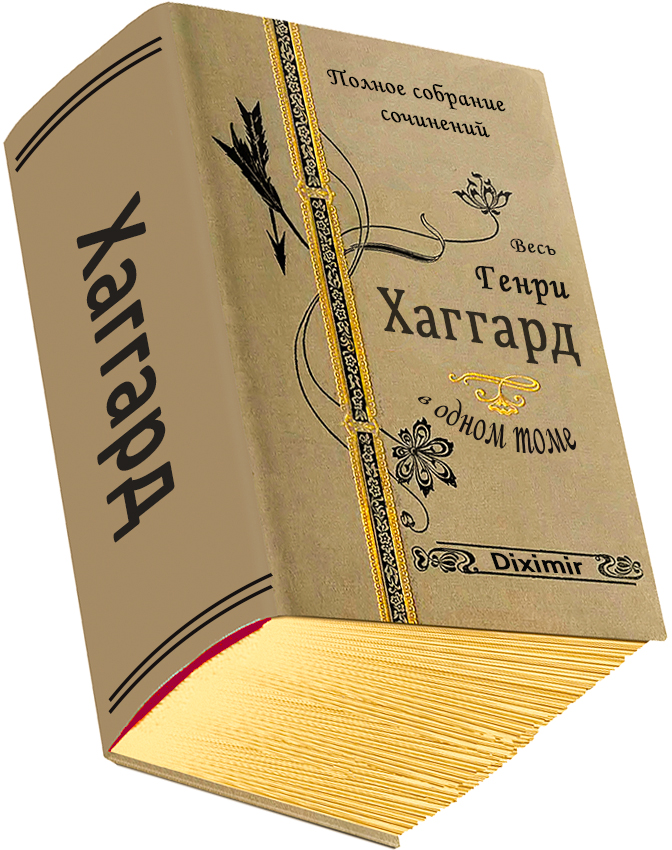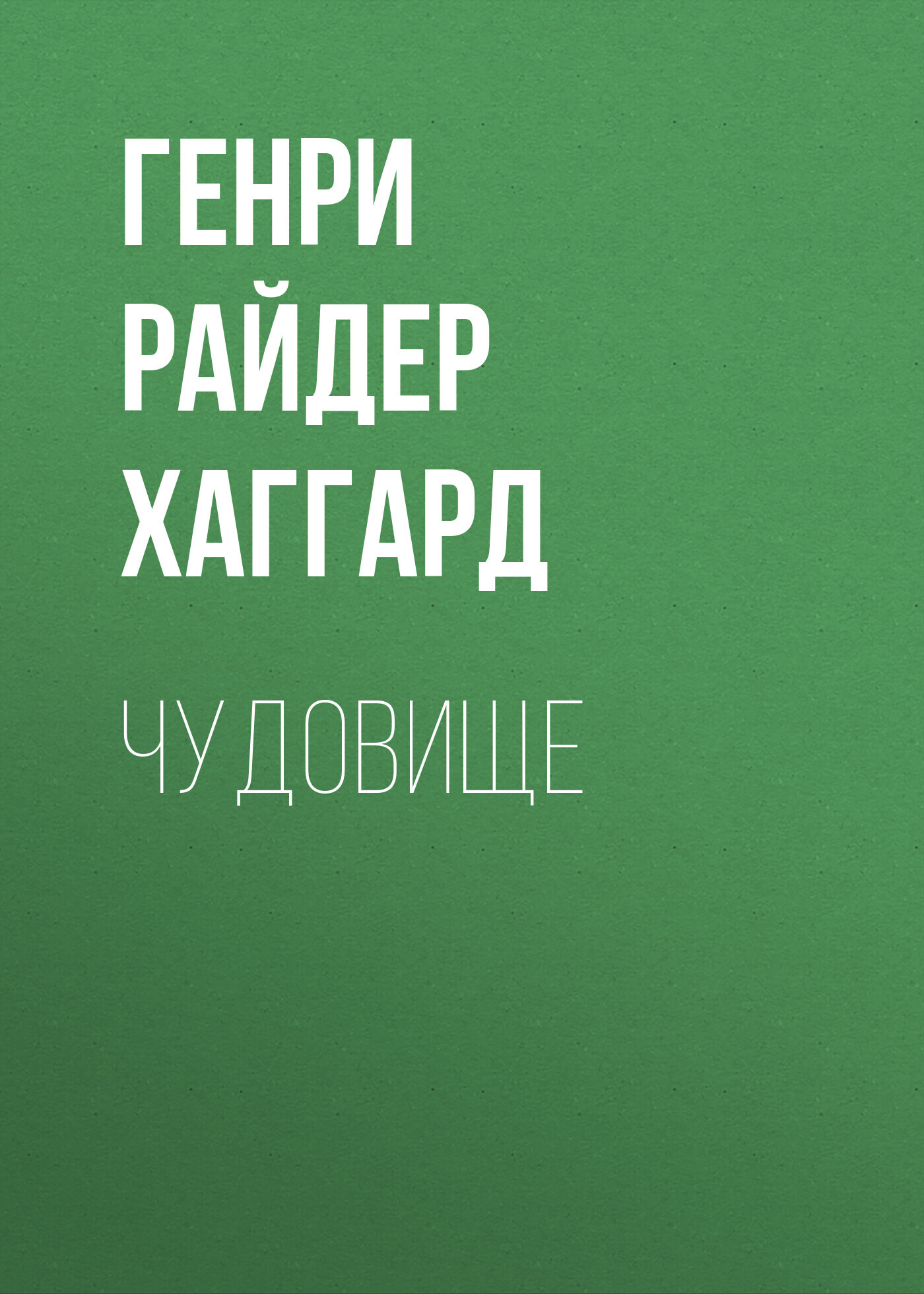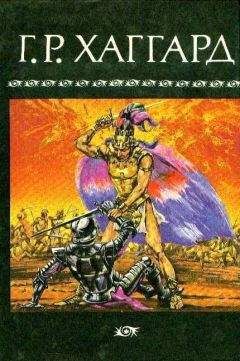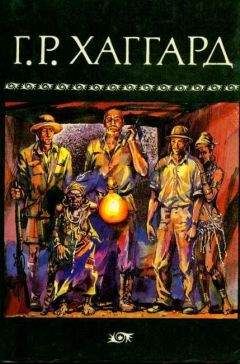— И когда ты узнал об этом? — спросил Леблан по-французски.
— На станции Миссии, немногим больше получаса назад!
— К черту! Это невозможно! Ты или сонный, или пьяный, — закричал он возбужденно.
— Ладно, мосье, мы разберем это потом, — ответил я. — Кафры вот-вот будут здесь, ибо я проскочил через их шеренги, и если вы хотите спасти свою жизнь, то прекратите разговоры и действуйте. Мари, сколько тут ружей?
— Четыре: два роера [5] и два маленьких…
— А кто из этих людей, — я указал на кафров, — умеет стрелять?
— Трое хорошо и один плохо, Аллан.
— Ладно, — сказал я. — Пусть они зарядят ружья лепурами, так назывались грубые куски металла вместо пуль, — а остальные пусть станут в проходе со своими ассегаями на случай, если воины Кваби попытаются прорваться через черный ход.
В этом доме было шесть окон, открывавшихся на веранду, и по одному в каждом углу. В задней части окон, к счастью, не было, а была одна комната в глубине коридора, ведущего от парадного входа к черному, длиной ярдов в пятнадцать.
Как только зарядили ружья, я распределил людей, поместив у каждого окна человека с ружьем. Окно правой гостиной я занял сам с двумя ружьями. Мари осталась со мной, чтобы перезаряжать их, что, подобно всем девушкам в этой дикой стране, делать она умела превосходно. Так что мы наскоро подготовились и, сделав это, почувствовал себя довольно бодро, чего нельзя было сказать о мосье Леблане, который, как я заметил, казался весьма расстроенным.
Я даже ни на минуту не предполагал, что он боялся, поскольку он уже зарекомендовал себя смелым и решительным человеком, однако, думаю, что сознание того, что его проступок принес эту ужасную опасность всем нам, давило на его рассудок. Здесь, видимо, было и что-то более сильное: мрачное предвидение приближающегося конца жизни, которую, мягко говоря, едва ли можно было назвать прожитой хорошо. Во всяком случае он беспокойно двигался в своем оконном проеме, тихо проклиная все на свете, а вскоре, как я заметил краешком глаза, начал прибегать к помощи своей любимой бутылки персикового бренди, которую он достал из буфета.
Рабы тоже были хмурыми, как и все туземцы, когда их внезапно разбудить ночью, но, когда рассвело, они стали более приветливыми. Ведь только плохой кафр не любит сражаться, да еще особенно, когда у него есть ружье и один-два белых для того, чтобы руководить им.
Итак, мы сделали какие только могли приготовления, которые, между прочим, я дополнил тем, что приказал завалить мебелью парадный и черный входы. Затем наступила пауза, которая, с точки зрения тогдашнего почти мальчика, каким я был, оказалась заметным испытанием для нервов. И вот я стоял там, у своего окна, с двумя ружьями: с двустволкой и роером, одноствольным ружьем на слона, для которого необходим огромный заряд, но оба с кремневыми замками… И хотя пистоны уже существовали, мы в Крадоке немного отставали от жизни.
Там же, припав к полу рядом со мной, готовила заряды, распустив свои длинные волосы по плечам, Мари Марэ, теперь уже совсем взрослая молодая женщина. В нависшей тишине она шепнула мне:
— Зачем ты приехал сюда, Аллан? Ведь дома ты был в безопасности, а теперь, вероятно, будешь убит.
— Чтобы попытаться спасти тебя, — просто ответил я. — А что, по-твоему, мне следовало бы делать?
— Попытаться спасти меня? О! Это очень хорошо с твоей стороны, но ведь ты же должен подумать и о себе.
— В таком случае я еще больше буду думать о тебе, Мари…
— Почему, Аллан?
— Потому что ты — моя и больше, чем моя. Если с тобой что-нибудь случится, для чего в таком случае мне нужна жизнь?
— Я не совсем понимаю, Аллан, — ответила она, уставившись глазами в пол, — скажи мне, что ты имеешь в виду?
— Имею в виду тебя, глупая девочка, — сказал я. — Что я могу иметь в виду кроме того, что я люблю тебя, что, мне кажется, тебе самой известно уже очень давно!
— О, — сказала она, — теперь я понимаю… — Затем она поднялась на колени и, приблизив свое лицо ко мне, поцеловала, добавив:
— А вот это мой ответ, первый и, может быть, последний… Спасибо тебе, дорогой, я рада услышать это, ибо из нас двоих ты можешь умереть скорее, Аллан…
Когда она сказала эти слова, через окно влетел ассегай, просвистевший между нашими головами. Тут уж мы отбросили свои любовные дела и сосредоточили внимание на военных действиях…
Стало светлей, облака на востоке приобрели жемчужный оттенок… Но никакого нападения пока не было, хотя в неминуемости его я не сомневался. Возможно, кафров испугали лошади, промчавшиеся сквозь их ряды в темноте, причем они не знали точно, сколько их было. Или они выжидали, желая лучше сориентироваться, где им начать атаку. Такие мысли роились в моей голове, но все они были ошибочны.
Кафры не проявляли агрессивности, пока не поднялся туман из впадины ниже фермы, где располагались краали для скота, ибо он мешал им завладеть богатством Марэ. Кафры хотели все точно выяснить и выгнать скот до начала битвы, чтобы не случилось что-нибудь, в результате чего у них перехватят добычу.
И вот теперь из этих краалей, куда были загнаны на ночь больше сотни коров и около двух тысяч овец, не говоря уже о лошадях (ведь хеер Марэ являлся крупным и преуспевающим фермером), раздалось мычание, блеяние, ржание и крики людей.
— Они выгоняют скот, — сказала Мари. — О!.. Мой бедный отец, он разорен! Это разобьет его сердце…
— Плохо дело, — откликнулся я, — но существуют вещи и похуже… Слушай!
Когда я сказал это, раздались звуки дикой военной песни и марширующих ног. Затем на краю туманной завесы, колышащейся над впадиной, появились быстро движущиеся призрачные фигуры воинов. Кафры выстраивались для атаки. Еще минута — и она началась. Воины вытянулись по склону непрерывными волнистыми линиями, они свистели и кричали, размахивая копьями, их боевые перья и прически трепетали, в их вытаращенных глазах люто горела жажда убивать. У двоих или троих были ружья, из которых они стреляли на бегу, но куда летели пули я не знаю, видимо, выше дома.
Я крикнул Леблану и своим кафрам, чтобы они не стреляли прежде меня, так как знал, что они плохие стрелки и многое зависит от того, насколько эффективным будет наш первый залп. Затем, когда командир атаки вступил в пределы тридцати ярдов от веранды, а быстро разгоравшийся рассвет позволил различить этого командира по одежде, я выстрелил в него из роера и убил наповал. А тяжелая пуля, прошив его тело, смертельно ранила еще одного, находившегося сзади. Это были первые люди, убитые мною во время военных действий.
Как только они упали, Леблан и остальные также открыли огонь, и удары их ружей внесли большое опустошение в рядах нападавших. Когда дым немного рассеяло, я увидел около дюжины павших, а остальные, испуганные таким приемом, приостановили атаку. Если бы они продолжили ее в то время, когда мы перезаряжали ружья, безусловно, они захватили бы дом стремительным натиском, однако, ошеломленные сокрушительным ружейным огнем, они сделали паузу.
Многие из них, — двадцать или тридцать, — скопились вокруг тел павших кафров и тут я, схватив второе ружье, выстрелил в них из обоих стволов, причем с таким ужасающим эффектом, что весь полк засверкал пятками и бежал, оставив убитых и раненых на хеиле. Когда они убежали, наши слуги обрадовались, но я приказал им сидеть тихо и побыстрее заряжать ружья, хорошо зная, что враги скоро возвратятся.
Однако, в течение некоторого времени ничего не произошло, хотя мы и могли слышать, как они болтали где-то рядом с краалем для скота, ярдах в ста пятидесяти от нас. Мари воспользовалась этой передышкой, припоминаю я, чтобы достать пищу и раздать ее нам. Что касается меня, то я этим был очень доволен.
Сейчас уже взошло солнце, за что я благодарил небо, ибо теперь нас нельзя было захватить врасплох. И с дневным светом часть моего страха улетучилась, ибо ночная тьма всегда удваивает опасность для людей, да и для животных тоже. Итак, когда мы насыщались и как можно лучше укрепляли оконные проемы, чтобы затруднить врагам вход в дом, появился одинокий кафр, размахивая над головой рогатой палкой, к которой был прикреплен белый бычий хвост, как знак перемирия.