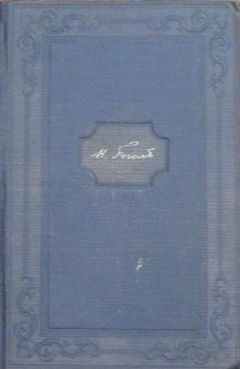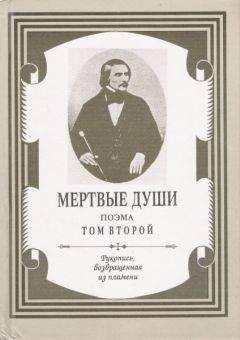Ознакомительная версия.
— Ну что ж, дорогие мои, вот и расстаёмся с вами. Я знаю, что был вам плохим хозяином, но не потому что не хотел быть хозяином хорошим, нет. Просто я не мог быть хозяином вам — таким же людям, как и я. Пусть некоторые из вас бывали хитры, лукавы, ленивы, но вы на то и люди; люди часто бывают таковыми, но они бывают и честны, и бесстрашны, и благородны, потому что они люди, — он снова немного помолчал, словно бы прислушиваясь к чему—то, а затем сказал уже немного другим, глуховатым голосом: — Я всех вас люблю и буду любить всегда и... не поминайте лихом своего барина.
Возок тронулся с места, заскрипели его бока, замахали спицами колеса, и, точно повинуясь этим всё убыстряющимся и убыстряющимся взмахам, вознёсся над толпою сперва один крик, за ним другой, заголосили бабы, заплакали мужики и все потянулись вослед за уезжающим в непроглядную даль Андреем Ивановичем, всё пытались уцепиться хотя бы за полу его арестантского платья, поцеловать руку, коснуться колышущихся боков возка.
— Я сбегу, я сбегу, барин, я доберусь к тебе в Сибирь, — кричал дюжий мужик в армяке, растирая по лицу то ли дождевые капли, то ли слёзы.
— И я, барин, и я сбегу, — закричал ему вдогонку второй.
— И я, и я, — стало раздаваться со всех сторон, — всей деревней к тебе придём, — наперебой кричали мужики, — всей деревней. Ты нас только дождись там в Сибири, барин, только дождись...
Всё. Уехал возок. Истаял во тьме сырого осеннего пространства, точно и не было его. Долгие дни, долгие недели и месяцы будет ползти он по раскисшим дорогам от села к селу, от города к городу, от заставы к заставе. И где—то там на промозглом, обдутом ветрами, промокшем тракте обвенчаются в придорожной церкви Тентетников с Улинькою, уехавшей вместе с ним, где—то там, за сотни вёрст от родных краёв, от отчего дома нагонит их холодным вечером известие о кончине его превосходительства Александра Дмитриевича Бетрищева, которого не взяла на войне ни пуля ни штык, но достигнула подлость людская, и чьё сердце не выдержав разлуки с любимой дочерью, перестало биться. Но всё это будет где—то там, за чертою, за гранью того, что зовётся обычною человеческою жизнью, на пути во что—то новое, неведомое и устрашающее, имя чему — Сибирь, имя чему — каторга...
Мы ещё встретимся и с Тентетниковым, и с Ульяной Александровной, но не теперь, не сейчас, а позже, в третьей части нашей поэмы, пока же оставим их с богом, дадим им возможность счастливо, насколько это возможно в их положении, добраться до нового места жительства, отведённого им провидением, обосноваться на нём и успокоиться.
Так что, любезные мои читатели, не будем мешать двум молодым, любящим друг друга сердцам. Бог им в помощь! Оборотим вновь наши взгляды на оставленный нами ненадолго Тьфуславль и на те события, что развернулись в нём чуть ли не тут же после отъезда Андрея Ивановича с Улинькой, а события эти были весьма и весьма интересны и запутаны, и из них в дальнейшем произошло множество других событий, одно другого занимательнее и поучительнее. И все они в той или иной мере были связаны с нашим героем, и даже более того, можно сказать, что они были им направляемы, и роль его в том, что предстоит нам сейчас описать, столь огромна, что нам и самим трудно поверить в то, как это Павел Иванович сумел всё таким образом устроить и произвесть.
А дело было в том, что с наступлением дождей и холодной погоды старухе Ханасаровой сделалось вдруг совсем худо. Шум в ушах и тяжесть в голове уж совсем что не оставляли её, и даже старания Акульки имели небольшой успех, несмотря на то, что Чичиков, постоянно присутствующий при "ворожбе", подсыпал в стакан с водою уже не один, а целых три порошка, действия их хватало не надолго, на каких—нибудь часа два—три, а затем шум в голове у старухи возникал сызнова, и сызнова же призываема была Акулька, которая теперь уж дневала и ночевала в доме у Александры Ивановны, дабы быть всегда под рукою, так что бедной Александре Ивановне приходилось за день выпивать до двенадцати порошков кряду, поставляемых ей тайно нашим неугомонным Павлом Ивановичем. Вероятно, вследствие этого злоупотребления порошками, о котором и предупреждал в своё время Чичикова доктор, у Александры Ивановны наступило общее расслабление. Она не могла уже держать голову, и та постоянно валилась то на одно плечо, то на другое. Глаза, недавно ещё живые и колючие, сделались у ней какими—то мутными, неясными, и даже казалось подчас, что она никого не видит и не слышит. Речь у Александры Ивановны стала вялая, и порою невозможно было разобрать, что силится она произнесть, и лишь с помощью её воспитанниц да Чичикова, которые каким—то чудом понимали в эти минуты старуху, удавалось установить связанность промеж её слов. Известие о болезни Александры Ивановны облетело весь достославный город Тьфуславль с быстротою молнии, с которою и вправду могут соперничать в скорости одни лишь слухи да сплетни. И откуда ни возьмись стали появляться у порога ханасаровского дому многие незнакомые люди, называвшиеся и метившие в родичи к богатой тётушке, о которых слыхом никто никогда не слыхивал. Все они, повыползав из каких—то потайных своих уголков, стучались в двери и, напустив тревогу на лица, пытались проникнуть в дом, справиться об драгоценном тётушкином здоровье. Но Павел Иванович, распоряжавшийся нынче в доме, не велел никого впускать, за исключением одного лишь губернатора и его супруги. Так что незадачливым визитёрам оставалось лишь любоваться строгим лицом старика лакея, стоявшего на страже у порога, да видом занавешенных окон, за которыми происходило что—то необыкновенно интересное для них, необыкновенно для них нужное, но к чему они не были допускаемы.
А Павел Иванович, пользуясь своею ролью чуть ли не первого лица в доме у Александры Ивановны, продолжал исподволь поиски завещания, написанного старухою, которые вёл уже не первую неделю, прикрывая их заботами о хозяйственных делах обширного имения Ханасаровой, кои предполагали копание в бумагах, бывших во множестве и в ящиках столов, и в шкафах, заполнявших и нутро огромного, дедовских ещё времён бюро, и стопками лежавших на конторке в кабинете. Непрестанные эти поиски не давали пока результатов, но Чичиков, не отчаиваясь, раз за разом перебирал кипы бумаг, размышляя, где бы он мог быть схоронен — этот заветный документ, от которого зависела будущность столь многих людей и его, Павла Ивановича, будущность тоже.
Всё чаще стала наведываться ему мысль о том, что завещания могло и не быть вовсе, что старуха, по причине своего крутого норову, могла и не написать его, мало заботясь о том, что будет со всеми этими кружащими вкруг её дому людьми после её смерти. И всё чаще говорил он себе, что так оно в действительности и есть.
На взволнованные запросы, производимые Фёдором Фёдоровичем Леницыным, он отвечал, что всё будет в порядке, что у него имел якобы место разговор об Фёдоре Фёдоровиче со старухою и та будто пообещала отписать всё своё наследство в пользу губернатора. На вопрос, видел ли он завещание и сделано ли оно, Павел Иванович ответил, что завещание будет сделано днями, что он за это отвечает, и это так же оговорено с Александрою Ивановною, которой, кстати сказать, день ото дня становилось всё хуже. Доктора, навещавшие больную, лишь разводили руками, говоря, что поделать уж тут ничего нельзя, потому как возраст всему виною, а с этой причиною медицина не научилась пока справляться. Все они прописывали старухе укрепляющее питье, какие—то порошки, о которых сами говорили, что от них будет мало проку, и никто из них, разумеется, не знал о роли присутствующей в доме "знахарки" Акульки, которая уж третьи сутки неотлучно находилась при умирающей старухе, оставаясь ночевать в её спальне, на чем, к слову сказать, настаивали и сами воспитанницы Александры Ивановны, да и прочие её домочадцы.
Улучивши время, когда никого, кроме Акульки, не было в комнате, Павел Иванович отвел её подальше от постели умирающей к окну и зашептал:
— Слышишь, любезная, если она вдруг помрёт, то ты никому ничего не говори, никого в комнату не впускай, а наоборот скажи, что ей стало лучше и она, дескать, спит. А как только это случится, тут же зови меня, поняла? — спросил он, взглянув на неё строгим взглядом.
— Поняла, — шепнула в ответ Акулька.
— Коли сделаешь, как я велю, получишь тысячу целковых! Поняла?! — снова спросил Чичиков у Акульки, а та вместо ответа принялась было целовать на радостях руку у Павла Ивановича и шептать что—то невразумительное, в чём мешались между собою слова "заступничек", "кормилец", "отец родной" и прочие звуки, не совсем, однако, понятные.
— Довольно, довольно, матушка, — проговорил Павел Иванович отдёргивая руку, которую принялась было слюнявить Акулька. — Скажи им, — кивнул он головою на дверь, — что сегодня надобно бы соборовать, а я съезжу тут по одному дельцу и вскорости вернусь.
Ознакомительная версия.