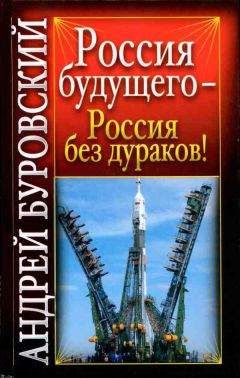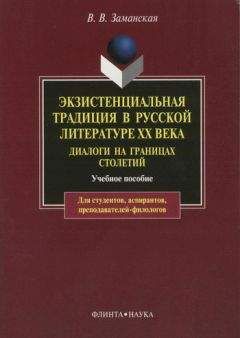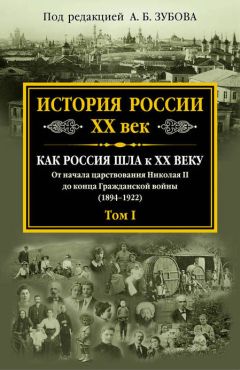Проблема лишь в том, что Русь, в особенности после смерти в 1054 году Ярослава Мудрого, была сообществом пусть европейским, но еще протогосударственным. И потому нежизнеспособным. в отличие от сложившихся европейских государств, которые тоже
вопросы истории, 1968, № 5, с. 24.
оказались, подобно ей, в середине XIII века на пути монгольской конницы (Венгрии, например, или Польши), Русь просто перестала существовать под её ударами, стала западной окраиной гигантской степной империи. И вдобавок, как напомнил нам Пушкин, «татаре не походили на мавров. Они, завоевав Россию, не подарили ей ни алгебры, ни Аристотеля».
Спор между историками идет поэтому лишь о том, каким именно государством вышла десять поколений спустя Москва из-под степного ярма. Я, конечно, преувеличиваю, когда говорю «спор». Правящий Стереотип мировой историографии безапелляционно утверждает, что Россия вышла из-под ига деспотическим монстром. Вышла, иначе говоря, наследницей вовсе не своей собственной исторической предшественницы, европейской Руси, а чужой монгольской Орды. Приговор историков, иначе говоря, был такой: вековое иго коренным образом изменило саму цивилизационную природу страны, европейская Русь превратилась в азиатско-византийскую Московию.
Пожалуй, точнее других сформулировал эту предполагаемую разницу между Русью и Московией Карл Маркс. «Колыбелью Московии, — писал он со своей обычной безжалостной афористичностью, — была не грубая доблесть норманнской эпохи, а кровавая трясина монгольского рабства... Она обрела силу, лишь став виртуозом в мастерстве рабства. Освободившись, Московия продолжала исполнять свою традиционную роль раба, ставшего рабовладельцем, следуя миссии, завещанной ей Чингизханом... Современная Россия есть не более, чем метаморфоза этой Московии».[9]
К началу XX века версия о монгольском происхождении России стала в Европе расхожей монетой. Во всяком случае знаменитый британский географ Халфорд Макиндер, прозванный «отцом геополитики», повторил её в 1904 году как нечто общепринятое: «Россия — заместительница монгольской империи. Её давление на Скандинавию, на Польшу, на Турцию, на Индию и Китай лишь повторяет центробежные рейды степняков».[10] И когда в 1914-м пробил для германских социал-демократов час решать, за войну они или против, именно на этотобронзовевший ктому времени Стереотип и сослались они в свое оправдание: Германия не может не подняться на защиту европейской цивилизации от угрожающих ей с Востока монгольских орд. И уже как о чем-то не требующем доказательств рассуждал, оправдывая нацистскую агрессию, о «русско-монгольской державе» Альфред Розенберг в злополучном «Мифе XX века». Короче, несмотря на колоссальные и вполне европейские явления Пушкина, Толстого или Чайковского, Европа по-прежнему воспринимала Россию примерно так же, как Блистательную Порту. То есть как чужеродное, азиатское тело.
Самое удручающее, однако, в том, что нисколько не чужды были этому оскорбительному Стереотипу и отечественные мыслители и поэты. Крупнейшие наши историки, как Борис Чичерин или Георгий Плеханов — чистой воды западники, заметьте, — тоже ведь находили главную отличительную черту русской политической культуры в азиатском деспотизме. И разве не утверждал страстно Александр Блок, что «азиаты мы с раскосыми и жадными очами»? И разве не повторял почти буквально жестокие инвективы Маркса — и Розен- берга — родоначальник евразийства князь Николай Трубецкой, утверждая, что «русский царь явился наследником монгольского хана. „Свержение татарского ига" свелось... к перенесению ханской ставки в Москву... Московский царь [оказался] носителем татарской государственности»?31 И разве не поддакивал им всем уже в наши дни Лев Гумилев? *
В такой, давно уже поросший тиной омут Правящего Стереотипа русской истории и бросили камень историки-шестидесятники. Так вот, первый вопрос на засыпку — как говорили в мое время студенты, — откуда в дебрях «татарской государственности», в этом «христианизированном татарском царстве», как называл Московию еще Николай Бердяев, взялась вдруг Великая реформа 1550-х, заменившая феодальных «кормленщиков» не какими-нибудь евразийскими
"·С. Трубецкой. Отуранском элементе в русской культуре, Россия между Европой и Азией: евразийский соблазн, M., 1993, с. 72.
баскаками, но вполне европейским местным самоуправлением и судом «целовальников» (присяжных)? Откуда взялся пункт 98 Судебника 1550 года, юридически запрещавший царю принимать новые законы единолично?
Введение
Пусть говорили шестидесятники еще по необходимости эзоповским языком, пусть были непоследовательны и не уверены в себе (что, естественно, когда ставишь под вопрос мнение общепринятое, да к тому же освященное классиками марксизма), пусть не сумели выйти на уровень философского обобщения своих собственных ошеломляющих открытий, не сокрушили старую парадигму. Но бреши пробили они в ней зияющие. Достаточные, во всяком случае, для того, чтобы, освободившись от гипноза 150-летней догмы, подойти к ней с открытыми глазами.
Интеллектуальная контрреформа
К сожалению, их отважная инициатива не была поддержана ни в советской историографии, ни в западной (где историки вообще узнали об их открытиях из ранней версии моей книги). Я не говорю уже о том, что Правящий Стереотип отнюдь не собирается умирать. Уж очень много вложено в него за десятилетия научного, так сказать, капитала и несметно построено на нем ученых репутаций. Сопротивляется он поэтому отчаянно. В свое время я испытал силу этого сопротивления, когда буквально со всех концов света посыпались на мою бедную Autocracy суровые большей частью рецензии (я еще расскажу о них подробно в Заключении этой книги).
Но еще очевиднее сказалась мощь старой парадигмы в свободной России, где цензура уже не мешает, а открытия шестидесятников по-прежнему не осмыслены, интеллектуальная реформа бо-х оказалась подавлена неоевразийской контрреформой и историческая мысль все еще пережевывает зады «старого канона». Вотлишь один пример. В 2000 году вышла в серии «Жизнь замечательных людей» первая в Москве серьезная монографическая работа об Иване III. Ее автор Николай Борисов объясняет свой интерес к родоначальнику европейской традиции России, ни на йоту не отклоняясь от Правящего Стереотипа: «при диктатуре особое значение имеет личность диктатора... Именно с этой точки зрения и следует оценивать... государя всея Руси Ивана III».32 Хорош «диктатор», дозволявший — в отличие, допустим, от датского короля Христиана III или английского Генриха VIII — проклинать себя с церковных амвонов и в конечном счете потерпевший жесточайшее поражение от церковной иерархии! Но автор, рассуждая вдобавок о «евразийской монархии», идет дальше. Он объявляет своего героя «родоначальником крепостного строя» и, словно бы этого мало, «царем-поработителем».33 Как еще увидит читатель, даже самые дремучие западные приверженцы Правящего Стереотипа такого себе не позволяли.
Простое сравнение
Между тем особенно странно выглядит всё это именно в России, чьи историки не могут ведь попросту забыть о Пушкине, европейском поэте parexellence. И вообще обо всем предшествовавшем славянофильской моде последних трех четвертей XIX века европейском поколении, к которому принадлежал Пушкин. О поколении, представлявшем, по словам Герцена, всё, что было «талантливого, образованного, знатного, благородного и блестящего в России»34 Решительно ведь невозможно представить себе, скажем, декабриста Никиту Муравьева декламирующим, подобно Достоевскому, на тему «единой народ-богоносец — русский народ»35 Или Михаила Лунина — рассуждающим, как Бердяев, о «славянской расе во главе с Россией, которая призывается к определяющей роли в жизни человечества».36 Не только не было, не могло быть ничего подобного У пушкинского поколения.
Николай Борисов. Иван III, М., 2000, с. ю. Там же, с. 11.
А-И. Герцен. Собр. соч. в 30 томах, т. 13, М., 1958, с. 43.
Введение
Достоевский. Собр. Соч. в 30 томах, т. ю, Л., 1974, с. 200. Н.А. Бердяев. Судьба России, М., 1990, с. ю.
Там, где у славянофильствующих «империя», у декабристов была «федерация». Там, где у тех «мировое величие и призвание», у них было нормальное европейское государство — без крестьянского рабства и самовластья. Там, где утех «мировое одиночество России», у них, вспомним Чаадаева, «братская связь с великой семьей европейской». Короче, европеизм был для пушкинского поколения естественным, как дыхание.
Введение
Достаточно ведь просто сравнить его с культурной элитой поколения Достоевского, чтобы убедиться — даже общей почвы для спора быть у них не могло. Ну, можете ли вы, право, представить себе обстоятельства, при которых нашли бы общий язык Сергей Муравь- ев-Апостол, не убоявшийся виселицы ради русской свободы, и Константин Леонтьев, убежденный, что «русский народ специально не создан для свободы»?[11] И как не задать, наблюдая этот потрясающий контраст, второй вопрос на засыпку: да откуда же, помилуйте, взялось в этом «татарском царстве» такое совершенно европейское поколение, как декабристы?