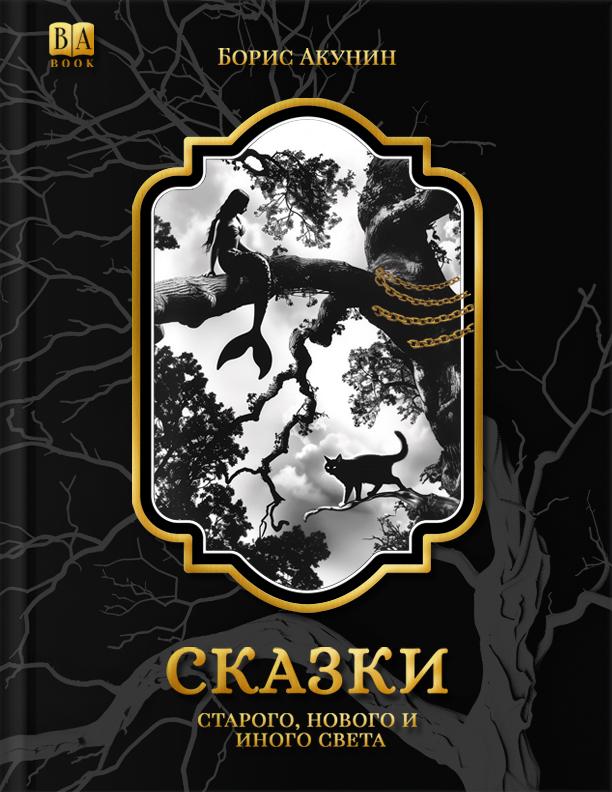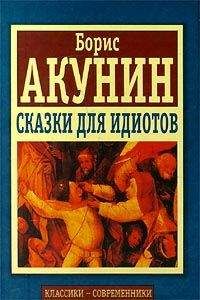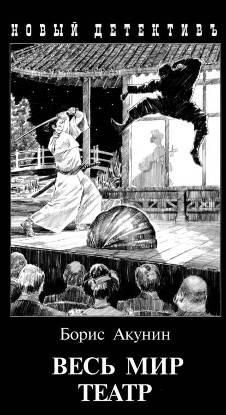— ему вечно все весело было.
— Изба-на-Курьих-Ногах не просто дом. Она — ворота в Тот Мир. Входишь с нашей стороны, а когда Изба повернется задом — выходишь уже Там. Прознал я из трактата, что по Ту Сторону, сразу как с крылечка сойдешь, Изумрудный Луг, а за ним Снежная Роща, и в той роще обретаются Ключи Счастья. Что за счастье отворяют те ключи, в тайной книге не сказано. Известно лишь, что Изба-на-Курьих-Ногах поворачивается отсюда-туда только в полночь, когда тринадцатое число приходится на пятницу. А времени, чтоб добежать до Снежной Рощи и вернуться обратно, немного. Там кукует кукушка, и как только крикнет она в 666-й раз, Изба поворачивается обратно. Не поспеешь — сиди с Той Стороны до следующей пятницы тринадцатого… И еще важное. Надобно, чтобы ночь выдалась полнолунная, когда Баба-Яга не может дома усидеть. Вы знаете, при полной луне она носится в своей ступе по небу, высматривает ночных путников, высасывает из них естество, а из кожи делает чучелы… Не попадитесь Яге ни в пути, ни тем боле в Избе…
Сказал это старик, благословил детушек, еще немножко поболел, да преставился. Схоронили его сыновья, стали сами жить.
Были они погодки, все родились на Ивана Купалу, и потому поп, не мудрствуя, окрестил их Иванами. Чтоб не спутать, люди звали старшего Иван Умапалата (он был башковит), среднего Ваня Златорук (он был на все руки мастер), а младшего Ванька-Дурень — он был не то чтоб дурак, а дурной: вечно лезет в воду не зная броду; сначала сделает, а потом думает, и то не всегда.
Пожили они втроем год-другой, и вот настал день, когда пятница пришлась на тринадцатое, да еще на полнолуние. Братья давно уже того ждали, друг перед дружкой храбрились, а тут надо идти — и боязно.
Иван Умапалата говорит: «Вы как хотите, а я себе счастья своим умом добуду, без волшебства». Ваня тоже передумал. «Я, — говорит, — со своими руками и так себе добра наживу». Один только Ванька не дрогнул. «А я схожу, погляжу, что за Ключи Счастья такие. Если что, не поминайте лихом».
И пошел себе. Он же дурень был.
Про других братьев что еще сказать? Все вышло, как они задумали. Старший добыл себе покойного счастья, какое бывает только у умных. Средний нажил себе всякого добра. А и бог с ними. Счастливо и покойно только жить приятно, а сказку про то сказывать скучно. То ли дело про беды и злосчастья.
Тут еще надо знать вот что. В мире счастья и несчастья, доброго и злого аккурат поровну, и если один забрал себе все хорошее, значит, другому достанется только лихо. Кому на роду суждено скакать по ухабам, тот мимо ямы не проедет.
До Синь-Леса Ванька дошел еще засветло, когда бояться нечего. Но ступил под высокие сосны — все окрест засинело, загустело, заухал филин, где-то вдали завыли волки. Темнело. Под шагами недобро хрустели ветки. Кто поумней, повернул бы восвояси, а Дурень знай себе топал да насвистывал. Заблудиться он не боялся — дурные мало чего боятся. Шел на авось, бездумно. Когда совсем закромешничало, подобрал с земли палку, замахал ею перед собой, чтоб не наткнуться на дерево. И ничего, не натыкался. Волки убрались от стука подальше, медведь не проснулся.
Когда же Ванька ступил в Мертвую Чащу, взошла луна, осветила сухостой и бурелом. В это гиблое место люди и звери не забредали даже днем, нечего тут было делать, и тишина вокруг стояла, как на ночном погосте.
Только вдруг засвистело наверху, загудело. Дурень задрал голову. Ишь ты! Несется над верхушками мертвых деревьев здоровенная бочка, а в ней старуха с добрую коровищу. Глаза — красными угольями, седые лохмы вьются по ветру. Баба-Яга! Летит да похохатывает, скорую поживу чует. Ей в полнолуние самый смак.
«Вон она какая, Яга-то, — сказал себе Ванька. — Ишь, злыдня!» — и сдуру перекрестился.
Лесная ведьма увидать его не увидала, но святое знамение почуяла и хохотом подавилась.
— Кто тут пакостит? — завыла она сверху. — Ууу, зажру!
Да орлицею вниз, в самую чащу. Мечется между стволами, глазищами сверкает.
Хорошо близко был дуб с вывороченными корнями. Ванька меж них затаился, пересидел.
Пошумело в воздухе, порокотало, пахнýло нежитью, и унеслась Баба-Яга прочь. Подумала, примерещилось ей.
А Дурню хоть бы что. Вскочил, встряхнулся, побежал дальше. Радуется, что проклятая изба без хозяйки осталась.
Долго ли, коротко ли пробирался он скверным лесом, но незадолго перед полуночью вышел на большую поляну.
Сверху льется серебряный свет, внизу, за частоколом, горбатится островерхий домок навроде поставленного торчком гроба — то ли дом, то ли домовина, а позади него клубится мгла. Если в Мертвой Чаще было тихо, как на ночном кладбище, то тут и вовсе беззвучно стало — будто в могиле, глубоко под землей.
Не шибко думая, а правду сказать, вовсе не думая, помчался Ванька вприпрыжку к ведьминому жилищу. Скоро разглядел, что частокол составлен из серых столбов, ворота нараспашку — заходи кто хошь, к дому ведет мощеная дорожка, окаймленная белыми круглыми камнями, а по сторонам шелестит, колышется под ветром, блестит под луною темная стриженая трава. Избу тоже рассмотрел. Была она неладно сложена, да крепко сшита, бревнышко к бревнышку, с двумя темными занавешенными окошками, стояла на двух упористых узловатых лапах.
«Чисто бабка живет, основательно, — сказал сам себе Ванька. — Хоть и ведьма, а порядок любит».
От бега он запыхался, решил малость передохнуть. Оперся о воротный столб, а тот гладкий, податливый, будто кожаный.
Поглядел — а это не столб.
Нагой труп с сомкнутыми очами, весь сморщенный. Впритык к нему другой, третий, четвертый. И весь частокол такой, мертвец к мертвецу. Кожа человечья, а внутри сено иль трава. Вот куда Яга девает тех, из кого естество высосала!
На что Дурень бесстрашный был, а тут шарахнулся, завопил: «Мамушки!».
Только дальше стало еще страшней.
Раздался громкий скрип.
Дом проснулся. Переступил с лапы на лапу, занавески сами собой раздвинулись, в окошках замерцали огоньки — будто открылись два зловещих глаза.