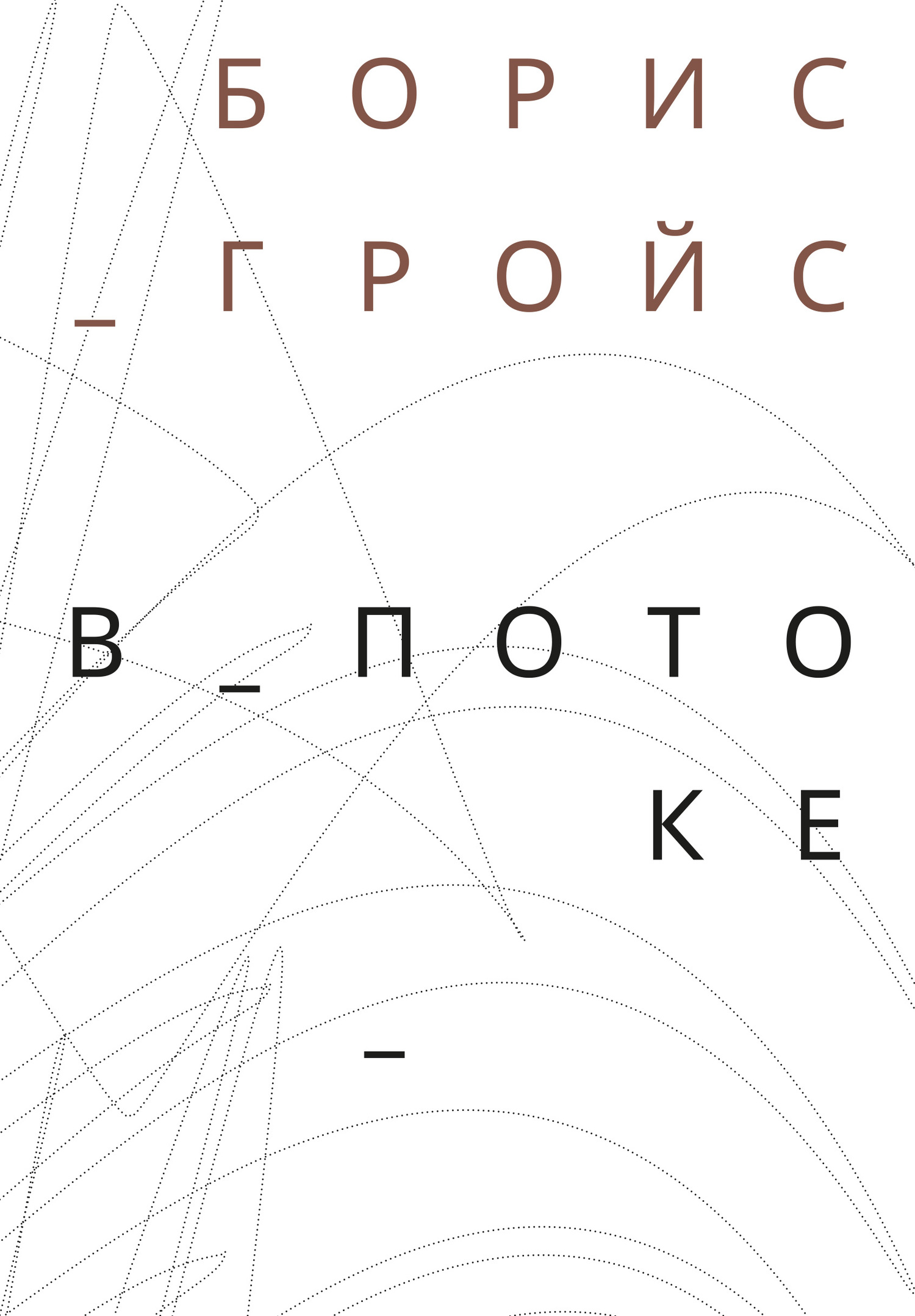Но в действительности он оптимистичен: в некотором смысле этот образ воспроизводит тематику гораздо более раннего эссе Беньямина, где он проводит различие между двумя типами насилия: божественным и мифическим [12]. Мифическое насилие производит разрушения, которые ведут к смене старого порядка новым. Божественное насилие только разрушает, не устанавливая при этом никакого нового порядка. Это божественное насилие перманентно и напоминает идею перманентной революции у Троцкого. Современный читатель беньяминовского эссе о насилии невольно задает вопрос: как божественное насилие может возобновляться до бесконечности, если оно абсолютно разрушительно? В какой-то момент должно быть разрушено всё, и божественное насилие станет отныне невозможным. Действительно, если Бог создал мир из ничего, то и разрушить Он его может полностью, не оставив никаких следов его существования.
Но дело в том, что Беньямин использует образ Angelus Novus в контексте материалистической концепции истории, где божественное насилие превращается в насилие материальное. Ясно, почему Беньямин не верит в возможность тотального разрушения. Если Бог умер, материальный мир становится неразрушим. В секулярном, чисто материальном мире разрушение может быть только материальным, производимым физическими силами, а любое материальное разрушение успешно лишь отчасти. После него всегда остаются руины, обломки, следы – в точности, как это описано Беньямином в его притче. Иначе говоря, если мы не можем полностью уничтожить мир, то и мир не может полностью уничтожить нас. Абсолютный успех невозможен, но это касается и абсолютной неудачи. Материалистическое представление о мире открывает пространство по ту сторону успеха и неудачи, сохранения и уничтожения, приобретения и утраты. А это и есть то пространство, где действует искусство, если оно желает реализовать на практике знание о материальности мира и о жизни как материальном процессе. И хотя искусство исторического авангарда часто обвиняют в нигилизме и деструктивности, эта деструктивность объясняется его верой в невозможность тотального уничтожения. Можно сказать, что авангард, глядя в будущее, видит ту же картину, которую Angelus Novus Беньямина видит, глядя в прошлое.
С самого начала своей истории современное искусство учитывало в своей практике возможность провала, исторической неудачи и разрушения. Стало быть, искусство не может быть шокировано теми разрушениями, которые оставляет после себя прогресс. Авангардный Angelus Novus всегда созерцает одну и ту же картину – неважно, смотрит ли он в будущее или в прошлое. Здесь жизнь понимается как нетелеологический, сугубо материальный процесс. Проживать жизнь означает сознавать, что эта жизнь может быть в любой момент прервана смертью, и не ставить перед собой далеко идущих целей, поскольку смерть грозит в любой момент прервать их реализацию. В этом смысле жизнь радикально отличается от любой концепции Истории, поскольку может быть описана только как бессвязная череда побед и поражений.
На протяжении долгого времени человеку онтологически отводилась средняя позиция между Богом и животным. При этом казалось более престижным стоять поближе к Богу и подальше от животного. В эпоху модернизма и в наше время мы обычно располагаем человека между животным и машиной. В этом новом контексте кажется, что лучше быть животным, чем машиной. Начиная с XIX столетия и до наших дней присутствует тенденция мыслить жизнь как отклонение от определенной программы – как разницу между живым телом и механизмом. Но в силу ассимиляции механистической парадигмы современный человек всё чаще рассматривается как животное, действующее наподобие машины – индустриальной машины или компьютера. С этой, фукодианской, точки зрения, живое человеческое тело – животность человека – выражает себя посредством отклонения от программы, посредством ошибки, безумия, хаоса и непредсказуемости. Вот почему современное искусство так часто тематизирует девиацию и ошибку – всё, что выламывается из нормального порядка вещей и нарушает социальные конвенции.
Важно отметить, что классический авангард в большей степени симпатизировал как раз машине, а не животному началу в человеке. Радикальные авангардисты, от Малевича и Мондриана до Сола Льюита и Дональда Джадда, создавали свое искусство в соответствии с алгоритмами, в которых девиация и вариативность ограничены генерирующими законами каждого из этих художественных проектов. Однако эти программы принципиально отличались от любой «реальной», «жизненной» программы, поскольку не были ни утилитарными, ни инструментальными. Наши реальные социальные, политические и технологические программы ориентированы на достижение конкретной цели и оцениваются в зависимости от своей эффективности и способности привести к реализации этой цели. В отличие от них программы и машины искусства не имеют телеологической установки. У них нет определенной цели и назначения. Реализация такой программы может быть в любой момент прервана смертью, но сама программа не утратит при этом своей логики. Так искусство реагирует на парадокс неотложности, вытекающий из материалистической теории и призыва реализовать ее на практике. С одной стороны, наша смертность, онтологическая нехватка времени заставляют нас отказаться от созерцательной, пассивной позиции и перейти к действию. Но, с другой стороны, та же самая нехватка диктует нам действие такого рода, которое не имеет конкретной цели и может быть прервано в любой момент. Такое действие изначально не имеет определенного завершения – в отличие от действия, которое заканчивается с достижением цели. Поэтому артистическое действие может продолжаться или повторяться до бесконечности. Недостаток времени трансформируется в бесконечный избыток времени.
Характерно, что операция так называемой эстетизации реальности осуществляется именно в момент перехода от телеологической к нетелеологической интерпретации исторического действия. Не случайно, например, Че Гевара стал символом революционного движения: все революционные начинания Че Гевары закончились неудачами. Но как раз благодаря этому наше внимание переходит от цели революционной деятельности к жизни героя-революционера, не достигшего своих целей. Эта жизнь приобретает в наших глазах блеск и совершенство – независимо от ее практических результатов. И таких примеров множество.
В этом смысле практическая реализация теории посредством искусства также предполагает ее эстетизацию. Сюрреализм можно интерпретировать как эстетизацию психоанализа. В «Первом манифесте сюрреализма» Андре Бретон, как известно, предложил технику автоматического письма. Идея состояла в том, чтобы писать как можно быстрее, чтобы ни сознание, ни бессознательное не поспевали за процессом письма. Здесь имитируется психоаналитический метод свободных ассоциаций, оторванный, однако, от своей нормативной цели. Позднее, после прочтения Маркса, Бретон убеждал читателей «Второго манифеста» взять револьвер и стрелять наугад в толпу: революционное действие здесь также становится бесцельным. Еще до этого дадаисты практиковали дискурс вне смысла и логики – дискурс, который без всякого для него ущерба может быть прерван в любой момент. Примерно то же самое можно сказать о выступлениях Йозефа Бойса: чрезвычайно длинные, они могли быть прекращены когда угодно, поскольку Бойс не ставил цель что-то с их помощью доказать. Это касается и многих других практик современного искусства: они могут быть прерваны или возобновлены когда угодно. Неудача становится невозможной в силу отсутствия критерия успеха. Между