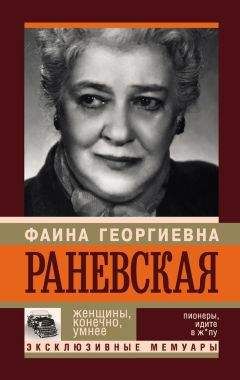Именно в этом театре Фаина Георгиевна сыграла в течение короткого периода пять ролей в пьесах Чехова: Шарлотту в «Вишневом саде», Машу Заречную в «Чайке», Войницкую в «Дяде Ване», Зюзюшку в «Иванове», Ольгу и Наташу в «Трех сестрах». Позже она сыграла немало ролей и в других чеховских пьесах. Но права была Павла Вульф, написав: «Крымский период был началом творческих успехов Раневской».
Глава третья В КРЫМУ И ПОСЛЕ
Из воспоминаний Фаины Георгиевны: «Я не уверена, что все мы выжили бы (а было нас четверо), если бы о нас не заботился Волошин. Среди худющих, изголодавшихся его толстое тело потрясало граждан, а у него, видимо, было что-то вроде слоновой болезни. Я не встречала человека его знаний, его ума, какой-то нездешней доброты. Улыбка у него была какая-то виноватая, всегда хотелось ему кому-то помочь. В этом полном теле было нежнейшее сердце, добрейшая душа… Однажды, когда Волошин был у нас, к ночи началась стрельба… Мы с Павлой Леонтьевной упросили его не уходить, остаться у нас. Уступили ему комнату; утром он принес нам стихи „Красная Пасха“. Это было в Симферополе 21 апреля 1921 года. На заплаканном лице его была написана нечеловеческая мука. Волошин был большим поэтом, чистым, добрым человеком».
Стихи эти, прежде строжайше запрещенные, сегодня широко известны, но хочется привести их еще раз, чтобы показать, в каких условиях жила Раневская в Крыму в те страшные месяцы:
Зимою вдоль дорог валялись трупы
Людей и лошадей. И стаи псов
Въедались им в живот и рвали мясо.
Восточный ветер выл в разбитых окнах.
А по ночам стучали пулеметы.
Свистя, как бич, по мясу обнаженных
Мужских и женских тел.
Весна пришла
Зловещая, голодная, больная.
<…>
Фиалки пахли гнилью.
Ландыш — тленьем.
Стволы дерев, обглоданных конями
Голодными, торчали непристойно,
Как ноги трупов. Листья и трава
Казались красными, а зелень злаков
Была опалена огнем и гноем.
Лицо природы искажалось гневом
И ужасом.
А души вырванных
Насильственно из жизни вились в ветре,
Носились по дорогам в пыльных вихрях,
Безумили живых могильным хмелем
Неизжитых страстей, неутоленной жизни,
Плодили мщение, панику, заразу…
Зима в тот год была Страстной неделей,
И красный май сплелся с кровавой Пасхой,
Но в ту весну Христос не воскресал.
Через несколько дней, 26 апреля, Волошин написал стихотворение, еще более трагическое, чем «Красная Пасха», дав ему название «Террор»:
Собирались на работу ночью. Читали
Донесенья, справки, дела.
Торопливо подписывали приговоры.
Зевали. Пили вино.
С утра раздавали солдатам водку.
Вечером при свече
Выкликали по спискам мужчин, женщин.
Сгоняли на темный двор.
Снимали с них обувь, белье, платье.
Связывали в тюки. Грузили на подводы. Увозили.
Делили кольца, часы…
<…>
А к рассвету пробирались к тем же оврагам
Жены, матери, псы.
Разрывали землю. Грызлись за кости.
Целовали милую плоть.
Раневская вспоминала: «Эти стихи мне читал Максимилиан Александрович Волошин с глазами, красными от слез и бессонной ночи, в Симферополе 21 года на Пасху у меня дома. Мы с ним и с Вульф и ее семьей падали от голода, Максимилиан Александрович носил нам хлеб. Забыть такое нельзя, сказать об этом в книге моей жизни тоже нельзя. Вот почему я не хочу писать книгу „о времени и о себе“. Ясно вам? А Волошин сделал из этого точные и гениальные вирши».
Разумеется, опубликовать такие стихи при советской власти было крайне сложно. Ведь ясно было, что все эти кошмары имели место тогда, когда красные заняли Крым, пообещав до этого не уничтожать белогвардейцев, оказавшихся на полуострове. Волошин, чтобы напечатать эти стихи в газете «Красный Крым», посвятил их якобы пятидесятилетию гибели Парижской коммуны в мае 1871 года, сопроводив примечанием: «Кровавой неделей коммуны зовут в Париже те дни, когда версальцы вершили расправы над побежденными».
Максимилиан Волошин и Фаина Раневская познакомились задолго до того, как он побывал у нее и Павлы Вульф в Симферополе. В дневниках Волошина читаем: «1918 год. Большевики в Феодосии. Безумная весна. Немецкое завоевание. Дуся. Фаина…» Дуся — это Евдокия Яценко, жительница Феодосии, в эмиграции ставшая киноактрисой. А вот Фаина — это Раневская, с которой Волошин познакомился в то время. Она принимала участие в его выступлениях-концертах. Об одном из таких концертов мне рассказывал писатель Эмилий Львович Миндлин, с которым я встречался в конце 1970-х в Доме писателей в Коктебеле, том самом волошинском доме, где побывали в разное время чуть ли не все советские писатели. Он прочел мне стихотворение бельгийского поэта Эмиля Верхарна «Ужас» в переводе Волошина:
В равнинах Ужаса, на север обращенных,
Седой Пастух дождливых ноябрей
Трубит несчастие у сломанных дверей —
Свой клич к стадам давно похороненных.
Кошара из камней тоски моей былой
В полях моей страны унылой и проклятой,
Где вьется ручеек, поросший бледной мятой,
Усталой, скучною, беззвучною струей.
И овцы черные с пурпурными крестами
Идут послушные, и огненный баран,
Как скучные грехи, тоскливыми рядами
Седой Пастух скликает ураган.
Какие молнии сплела мне нынче пряха?
Мне жизнь глядит в глаза и пятится от страха.
Заметив мою потрясенную реакцию, Эмилий Львович продолжил рассказ: «Если принято считать, что хороший переводчик поэзии — это соперник поэта, то чтение стихов Верхарна в переводе Волошина было истинно русской интерпретацией великого бельгийского поэта-символиста. На этом вечере, о котором я рассказываю, Фаина Георгиевна прочла немало стихов Верхарна, но мне особенно запомнилось стихотворение „Микеланджело“. Французским я не владел, но мне показалось, что язык этот знаю с детства».
Эмилий Львович достал томик Верхарна и прочел это стихотворение на русском языке:
Когда Буонарроти вошел в Сикстинскую капеллу,
Он насторожился,
Как бы прислушиваясь,
Потом измерил взглядом высоту, —
Шагами расстояние до алтаря,
Обдумал свет, сочащийся сквозь окна,
И то, как надо взнуздать и укротить
Крылатых и ретивых коней своей работы…
Затем ушел до вечера в Кампанью…
«Так вот, — продолжил он, — Волошин в начале века перевел много стихов Верхарна — по сути, преподнес его русскому читателю. Почему на этих концертах читать стихи Верхарна он предложил Фаине Георгиевне? Наверное, прежде всего потому, что сам отлично владея французским языком, обратил внимание на дикцию Раневской, когда она говорила и читала по-французски, и, вероятно, подумал, что перевод из Верхарна может донести до читателя лишь человек двуязычный. Так, как эту роль могла сыграть Раневская, не далось бы никому. И, во-вторых, по мнению самого Волошина, Верхарн — поэт весьма неровный. О своих переводах он писал: „Мои переводы отнюдь не документ: это мой Верхарн, переведенный на мой язык. Я давал только того Верхарна, которого люблю… Приняв произведения в свою душу, снова родить его: иным творческий перевод не может быть. Но это не мешает многому в моих переводах быть дословным“».
Эмилий Львович сказал, что он когда-то, много лет тому, звонил Раневской и предложил организовать в Москве вечер, посвященный волошинскому обществу «Киммерика». И было бы замечательно, если бы Фаина Георгиевна прочла на нем Верхарна в оригинале, а он сопроводил бы ее чтение переводами Волошина. На это Раневская ответила, что она не только забыла стихи Верхарна в оригинале, но разучилась вообще говорить по-французски. Этому языку, как и немецкому, ее научили домашние учителя, но в повседневной жизни они советскому человеку не требовались, да и само знание их могло оказаться опасным. Поэтому многие потомки «буржуев» предпочли, подобно Раневской, забыть ненужный навык.
Волошин в 1919 году писал Бунину из своего Коктебеля: «Я живу здесь с репутацией большевика, и на мои стихи смотрят, как на большевицкие». По словам Э. Л. Миндлина, «белые не были ему любопытны — у них не было ничего загадочного, непонятного. Красные оставались для Максимилиана Волошина загадочными. Я видел, как он присматривался к ним в Феодосийском народном университете. Университет открыли почти тотчас после освобождения Крыма. Ректором его был Викентий Викентьевич Вересаев, проректором — Д. Д. Благой. Разместился он на втором этаже старинного дома по Итальянской улице, вход был открыт для всех, и длинный зал салатового цвета с потемневшими лепными потолками был переполнен слушателями в шинелях и гимнастерках с красноармейскими шлемами на коленях. Волошин читал им о возрожденцах — о Микеланджело и Леонардо да Винчи, а они еще дух не успели перевести после последних боев за Крым».