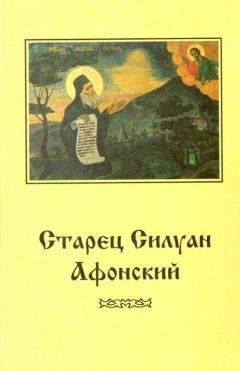— Хэм, милый друг мой, брат… А ведь и не верится, что жизнь уже подходит к окончанию. Пройдет еще совсем немного времени, и нас не станет… Сначала уйдешь ты… И буду лить по тебе слезы, сложу плач… Потом — спустя мгновенье — и я уйду за тобою… Хэм, брат мой, милый — все мы стоим на пороге вечности… Смерть совсем близко… Вот я хотел говорить тебе благодарности — самые, самые светлые, милые, какие только возможно, но… ты уже давно стал моей второй половиной, как же можно говорить какие-то благодарности своей второй половине?..
И тогда Фалко обнял Хэма за плечи, привлек к себе и крепко-крепко обнял. В этом объятии прошло довольно много времени, вокруг по прежнему завывал ветер, неслась вьюга, но они уже не чувствовали ее — нет — им казалось, что распахнулся бесконечный, счастливый простор и вновь шагнули они к родным Холмищам. Фалко шептал:
— Да, я не знаю, как можно благодарить тебя. Не ведаю, что могу для тебя сделать. Быть может, ты скажешь?
— Расскажи, что-нибудь. Что-нибудь, не поучительное, не хитроумное, даже и не подходящее к нашему положению. Расскажи просто что-нибудь такое, отчего бы стало светло на душе.
И Фалко, ни на мгновенье не задумываясь, тут же стал рассказывать. Эту историю он не вспоминал более сорока лет, даже и позабыл про ее существование — теперь же она встала пред ним разом, так ярко, будто только что была рассказана. Прекрасно помнил он и рассказчика, и то, как это было: тогда он, совсем еще маленький хоббитенок, сидел на лавочке возле одного из холмов, который представлялся ему тогда огромной волшебной горой. Был тот вечерний час, когда весь мир погружался в сумерки, когда все казалось загадочным, таящим какие-то прекрасные тайны. Да и весь мир представлялся одной прекрасной тайной. Рассказывал один старый-старый, совсем седой хоббит, который умер еще до сожжения Холмищ. Когда он рассказывал из теплых, живых очей его текли слезы. Когда рассказывал Фалко, то тоже плакал. Ему было хорошо. Он любил.
* * *
Далеко-далеко на севере, там, где большую часть года надрываются ветры, где стужа ревет, и несутся и несутся на свою погибель полчища снежинок, там стоит укрытое стенами бурь небольшое поселение, в нем живут суровые, единые с той снежной природой люди. Если удастся дойти до них, и зависти беседу, то кто-нибудь из сторожил, быть может, отведет вас к маленькой избушке, которая стоит в отдалении на холме, под сенью согбенного, полопавшегося от мороза, дуба. Эта совсем небольшая, потемневшая от долгих лет избушка. Сторожил ничего не скажет, только жестом пригласит зайти, и вы не сможете отказать, вы почувствуете благоговенье, почувствуете, что вскоре узнаете какую-то прекрасную историю. Вот вы внутри избы — всего лишь одна небольшая горница, но, в то же, время, кажется, что — это просторная, прекрасная зала — небогатая обстановка вся сияет святостью, и понимаешь, что здесь было нечто высшее, у чего можно многому научится. Глубоко, печально вздохнет сторожил, пригласит сесть за стол и начнет рассказывать.
Давным-давно это было. Наше поселение тогда таким же маленьким, никому неведомым стояли, и проносились над ним по каким-то своим делам могучие северные ветры. Тогда в одной из наших избушек жила маленькая девочка, и была у нее злая мачеха, батюшка же погиб в охоте на пещерного медведя. Злая была мачеха — все что было у нее хорошего отдавала родным дочерям, все остальное доставлялось той девочке, звали которую, кстати, Вэлдой.
Один год выдался очень холодным, даже и для нас. В такой мороз даже камни не выдерживают, скрипят, стонут, покрываются трещинами. Звери сидят в занесенных снегом берлогах, а мы — голодаем. В семье Вэлды не было охотника, а, значит, приходилось им особенно тяжко. Конечно, как могли, помогали им добрые соседи — но ведь и соседи голодали — и им тоже чем-то надо было питаться. В общем, в одну невероятно студеную, наполненную воем ветра ночь призвала мачеха Вэлду к себе, и говорит:
— Иди, и найди нам пропитание. Без еды и не возвращайся — саму тебя съедим.
— Да, да! — вторят ей родные дочери. — Именно и съедим…
И смотрели они такими дикими, безумными глазами, что действительно можно было поверить, что действительно сейчас набросятся они на несчастную Вэлду да и раздерут ее в клочья. Попятилась девочка к двери, вот вскрикнула, распахнула дверь, да и бросилась бежать что было сил — в ужасе, себя не помня. Мачеха захлопнула за ней дверь, но все же и за несколько мгновений успело налететь столько мороза, что довольно долгое время и она, и дочери ее все дрожали.
— Ведь не вернется она! — выкрикнула, стуча зубами, одна из дочерей.
— Да какой там! Разве же мыслимо! И от дома далеко не уйдет — упадет в сугроб, закоченеет. Ну, туда ей и дорога! — так усмехалась мачеха.
Ну, а Вэлда так перепугалась, что и про холод и про слабость свои позабыла — бежала она очень долго, и даже не ведала куда. Ничего вокруг не было, только ветер, метель да мрак. Несколько раз завязала она в высоченных сугробах, но каждый раз выбиралась, некоторое время ползла, разгребая снег, ну а потом — находила в себе силы, и бежала дальше. Наконец, чувствует, что выбивается из сил — поняла, что скоро падет и не поднимется, в ледышку обратится. Плакать стала, а слезы прямо на ее щеках и замерзали — такой лютый мороз был. Нет — не может она больше ни шага сделать, тут и взмолилась, неведомо к кому обращаясь:
— Помоги ты мне. Приди, приди — я жить хочу. Я так многого в этой жизни еще не узнала…
И тут видит — о чудо! — разливается впереди, пусть и слабое, но такое прекрасное, переливчатое сияние. Поднималось оно из-за холмовой гряды, которая словно стена перед Вэлдой возвышалась. И тогда нашла она в себе силы, и стала вверх по этому холму карабкаться, и вот, через некоторое время, совершив неимоверные усилия, вся окоченевшая, но, все-таки, со счастливой улыбкой, что победила, выбралась она на вершину и увидела северное сияние. И в прежние дни наблюдала она, конечно, эти танцующие в небе цвета, очень любила их, но никогда, никогда не представлялись они ей настолько живыми, настолько совершенными. Ей даже казалось, что она чувствует исходящее от них, такое восхитительное тепло. Из последних сил протянула она к сиянию руки, и взмолилась:
— Пожалуйста, очисти от снеговых туч небо. Пожалуйста, согрей меня…
И не успела она ее закончить, как те тучи, которые еще неслись над ее головой, умчались куда-то на юг, а небо, впервые за многие дни стало чистым, видны были и звезды, и Луна печально взирала, а половину неба занимала это волшебно переливчатое полотно. Любовалась этой красой Вэлда, слезы умиления текли по ее щекам, а голова, все-таки, все ниже опускалась в снег — девушка понимала, что умирает, но принимала это спокойно. И тихо-тихо, уже с закрывающимися глазами, прошептала она:
— Прощай, прощай, как хорошо, что эта красота, последнее, что я вижу…
И тут (сначала то ей подумалось, что — это просто виденье предсмертное) — тут в глубинах этого небесного, живого полотна произошло движенье, и вот уже выбежал, и помчался по незримым небесным дорогам прекраснейший, широкорогий олень, который весь, казалось, был соткан из живого света. Он все приближался, приближался, и только когда склонил свою голову над Вэлдой, тогда поняла девушка, что — это не видение. От оленя исходил тот дивный, теплый аромат, который так любила она, который так пьяняще полнит воздух в недолгие дни северной весны — это был аромат освобожденной от ледового панциря, согретой благодатным солнцем земли, запахом пробуждающихся трав и растений. Вэлда почувствовала приток сил, и вот подняла голову увидела глаза оленя — и, хотя это были не человеческие глаза, она сразу увидела там и ум мудреца и добро. Вот встряхнул олень своими широкими рогами и посыпались из них цветы, нежными своими лепестками касались лика девушки, и вот почувствовала она себя так хорошо, как чувствовала, разве что в те дни, когда еще был жив ее батюшка. Она хотела обнять за шею оленя, и так, с его помощью подняться — показалось ей, будто руки прошли через что-то теплое, словно через весеннее, наполненное солнцем облако — и все-таки, некая сила помогла ей подняться, и вот уж она стоит перед этим небесным зверем, смотрит в его очи мудрые, добрые, спрашивает:
— Кто ты?
Ничего не ответил ей олень, только головой повел, и вновь наполнился воздух кружащимися весенними цветами, и касались они лика Вэлды, и хорошо было девушке. Полюбила она оленя, так как никого прежде не любила, вот молвила дрогнувшим голосом:
— Понимаю, ты не можешь рассказать, кто ты. У тебя нет дара речи. Но меня ты понимаешь, и я скажу, что полюбила тебя. Будь милым братом моим, возьми туда, откуда пришел. Возьми в красу небесного сиянья…
И кивнул олень головою, и подхватил Вэлду, и понес. Далеко-далеко под собою видела она снежные поля по которым перекатывались дивные небесные краски, а цвета сияния становились все ближе, вот уже коснулись ее лика, и были они подобны прикосновеньям лепестков небесных цветов. Можете ли вы представить себе счастье Вэлды?.. Она смеялась, она шептала, она пела. И это была прекрасная песнь, торжествующей любви. Она даже и не ведала, откуда пришли к ней эти строки — кажется, из какой-то иной истории: