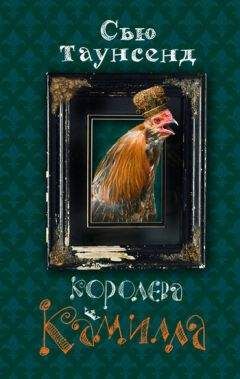– А понимаешь ли ты, сестра, что твоя трогательная попытка, измазав себе лицо, выразить сочувствие темнокожим, для них глубоко оскорбительна, поскольку говорит о покровительственном отношении?
– Это копоть, – сказала я.
– Вот именно, – откликнулась она. – Кое-кто ведь называет их «копчушками».
– Я так не называю.
– А ты как? – ухмыляясь, спросила она.
Вокруг стали собираться ее приятели. Некоторые щелкали фотоаппаратами.
– Я их называю так, как их зовут, – сказала я.
– А всех вместе ты их как называешь?
– Никак я их больше не называю, – ответила я. – Что ни скажи, все звучит обидно. Если вы дадите мне кусочек мыла и посоветуете, где можно бесплатно помыться горячей водой, я смою копоть. Мне тошно ходить с чумазым лицом.
– Ага. Не можешь этого вынести, да, сестра? Что ж, теперь ты знаешь, каково жить в расистском обществе.
Пестро одетый парень, которому вера запрещает мыть и стричь волосы, заплетенные в тугие косички, громко засмеялся и сказал:
– Да брось ты, Лыска. Тебе-то откуда знать, каково это? Ты же сама белая, как простыня, вымоченная в отбеливателе. Или ты давно в зеркало не гляделась?
Лысая голова девушки ярко вспыхнула.
– Ты чересчур терпим, Кенрой, – сказала она. – А мне обрыдло лезть за тебя в драку.
Улыбка сползла с лица Кенроя.
– Слушай, лапочка, я все хотел тебе сказать. Я люблю, когда у моих женщин на голове есть волосы. Надоело мне просыпаться по утрам рядом с голым черепом. Если мне взбредет полюбоваться черепом, я ведь могу сходить в Британский музей.
Зрители, столпившиеся вокруг, ахнули. Кенрой пожевал губами и крикнул:
– Пока, Лыска, я потом зайду, заберу свой «сони» и носки.
Девушка бросилась за ним, он повернулся, и они обнялись, он любовно гладил ее лысую голову, а она целовала его в шею.
Я подумала, что пора мне освободить площадь и окружающих от тех неприятностей, которые я, по-видимому, им доставляю, но не знала, куда идти. Было почти темно; по самому краю площади неслись машины, напоминая индейцев, окружающих обоз колонистов.
Я готова была расплакаться от холода. Попыталась укрыться от ветра за постаментом льва. Будь там достаточно места, я бы свернулась калачиком меж его металлических лап. Мне хотелось забраться во что-то, только размером поменьше, чем широкая общедоступная площадь.
Я стала вспоминать виденные мною фильмы о всяческих невзгодах – о людях, неделями продержавшихся в море на плаву, или о тех, кто попал в лагеря военнопленных. Кажется, эти люди без конца пели, пока язык не распухал. Я решила испробовать и это; вполголоса я запела:
Нужен мне лишь приют в тепле,
А не ветер в промозглой мгле.
Не спать на сырой земле —
Вот это было б здорово!
Я замолчала, когда подошла молодая пара и встала около меня. На девушке была синяя шляпка с вуалью, ее синий костюм был измят и слишком тонок для октября. Она дрожала. Ветер сдувал с ее волос кружочки конфетти. Молодой человек еле держался на ногах от усталости; он то и дело оттягивал чересчур тугой ворот белой сорочки. Лицо у него было красное и сердитое. Кто-то его недавно отвратительно постриг. Из петлицы серого костюма свисала привядшая розовая гвоздика.
– Ну, посмотрела фонтаны? – сказал он. – Теперь-то мы можем вернуться в гостиницу?
– Ах, Майки, – сказала она, – мы ведь только-только пришли. Давай немножко пройдемся.
– Иди. А мне это до фени, я здесь посижу.
Майки зажег сигарету и стал смотреть, как она, чувствуя его взгляд, смущенно зашагала по площади, покачиваясь на высоких каблуках. Ему на голову сел голубь. Он пронзительно взвизгнул, потом украдкой покосился на меня, стыдясь такого недостойного звука.
– Ну, теперь ты счастлива? – грубо спросил он молодую жену, когда та вернулась.
– За что ты сердишься на меня, Майки? – спросила она. – У нас же медовый месяц, ты должен быть счастлив. Вот я счастлива, – добавила она без всякого убеждения.
– Я тебе говорил, что ненавижу Лондон, говорил ведь? – захныкал он.
– Но не ты же за это платишь, правда? – сказала она. – А мои мама с папой.
– Ну знаешь что, Эмма, – начал он, и лицо у него покраснело. – Я бы предпочел получить деньги, а не Лондон. Чем мы сможем похвалиться, когда вернемся в Лидс? А?
– Счастливыми воспоминаниями, – ответила она.
– Мне холодно, – заныл он. – Ключ от номера у тебя?
Она открыла синюю пластиковую сумочку без ремешка и вынула большой треугольник оргстекла. С уголка свисал маленький ключик.
– Один брелок, ключа-то, можно сказать, и нет, – проворчал Майки. – Я ухожу, делай что хочешь.
– Я пойду с тобой, – сказала она и робко взяла его под руку.
По дороге она все время заглядывала ему снизу в лицо. Но тиран так и не удостоил улыбкой смиренную подданную. Он начал гнуть свою линию и сворачивать с избранного пути не собирался.
Мне хотелось догнать его и вдарить как следует этому страдальцу между лопаток. Вообще-то я женщина не агрессивная. Если не считать единственного убийства, я в жизни не тронула ни одного человека. Поэтому необычную для меня воинственность я отнесла за счет голода и тоски по сигаретам.
С площади мне пришлось уйти, так как там появилась группа юных американок в мокрых костюмах, они стали подначивать друг друга и прыгать на спор в фонтан, обрызгивая прохожих. Кто-то из пострадавших вызвал полицию, но я скрылась прежде, чем полицейские успели высунуть сапожищи из фургона.
Я снова направилась по Чаринг-кросс-роуд на свою территорию. Лондон целиком состоит из еды: дома, похожие на бутерброды «Биг Мак», не тротуары, а пиццы, не автобусы, а большие жареные куры, и даже машины напоминают щедрые порции китайского блюда чау-мейн. Если люди не ели, то они или курили, или пили, или просто наслаждались теплом. Мне захотелось плакать, однако я не смогла выжать из себя ни слезинки. Я пустилась бежать, но у моего тяжело нагруженного лифчика лопнула застежка, и груди выскользнули на свободу. Замерзшие соски торчали наподобие леденцов на палочке, так что мне пришлось скрестить руки и перейти на шаг. Я внимательно смотрела себе под ноги, надеясь найти большую булавку, но попался лишь сломанный значок со словами «Я люблю Лондон».
Шагая по улице, я вдруг услыхала странный звук, будто захныкал маленький ребенок. Я глянула направо и налево, пытаясь определить, откуда доносится плач, посмотрела вперед, обернулась назад, но нигде никого не было видно.
8. Семейные тайны
Когда инспектор Слай ушел, Джон Дейкин скрылся в своей крохотной спальне и задвинул на двери шпингалет. Ему было слышно, как напротив, через площадку, плачет в своей куда более просторной спальне его сестра Мэри. Внизу остался рыдать в синтетические диванные подушки отец. Джон пытался было успокоить отца, похлопав его основательно по спине, но тот никак не отреагировал, и Джон оставил его в покое.
Запертый на замочек дневник матери открыть оказалось проще простого, даже жаль ее стало. Хватило одного поворота отвертки.
СРЕДА 30-е ДЕКАБРЯ
Если кто-то нашел этот дневник и сейчас читает его, я умоляю не читать дальше. Пожалуйста, положите его туда, где нашли. Продолжаете читать? Это ты, Дерек, или Мэри, или Джон? Кто бы это ни был, пожалуйста, остановитесь.
Джон продолжал читать, ничто не могло его остановить.
Я решила начать новую жизнь. Я сменю себе имя, и в будни, с 9 утра до 4 дня, я буду совсем другим человеком. Вечером и по воскресным дням я буду женой Дерека и матерью своих детей. Новая жизнь не потребует затрат. Мне понадобится лишь изменить внешность. Я всю жизнь живу в этом городе, и меня слишком многие знают.