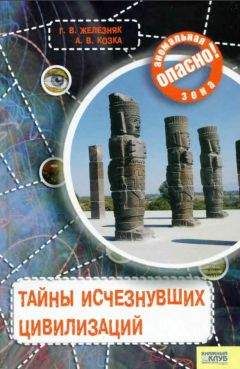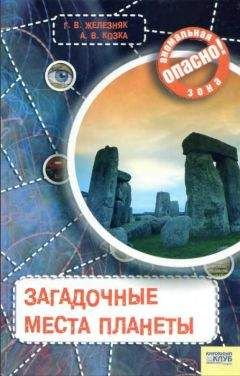На улице прекрасная погода. Говорят, что в прошлом году снег шел до самого июля. Но в этом году небо в июне ясное, прозрачное, застывшее в кобальтовой вечности. Это время для пикника. Для купания. На озере вода отблескивает бриллиантами, темные силуэты огромных рыб двигаются под водой. На другом берегу неподвижно сидят люди, рыбачат. Кажется, все вокруг мирно, чудесно, безучастно. Паук снова принялся плести паутину на ирисе. Та же паутина, те же ирисы вот уже на протяжении нескольких недель. Лизетта испражняется своими внутренностями, буколический пейзаж постепенно разбавляется зеленью, но от этого не становится более реальным.
Воскресным утром поверка длится четыре часа. Они сбиваются со счета и начинают считать снова и снова. Мила больше не думает. Не пытается отвлечься. Она притворилась стелой. Она просто ждет.
Вернувшись в блок, Лизетта смотрит на Милу своими черными глазами: «Мне холодно, мне так холодно, меня сильно морозит». Жоржетта трогает ее лоб, потом заговаривает о лазарете. Мила отказывается, лазарет – верная смерть, она это сразу поняла. «Мила, речь идет о том, чтобы просто принять аспирин и сбить температуру. В любом случае в лазарете нет ничего, кроме аспирина». К счастью, у Милы горячий лоб, она кашляет и отхаркивает мокроту, она могла бы пойти вместе с Лизеттой. «Мила, выйди на солнце, нужно, чтобы ты горела. Сейчас повысим тебе температуру, если у тебя будет меньше сорока градусов, они вернут тебя в блок».
Мила ведет в лазарет маленькую старушку, поддерживая ее так, что мышцы на руке напряжены до предела. Она приподнимает ее шаг за шагом, сохраняя невозмутимое лицо и не выказывая своих усилий, чтобы никто не догадался, что Лизетта для нее – обуза, что она – добыча для черного транспорта. Лизетта волочит по дороге ноги, оставляя за собой небольшие клубы желтой пыли. Мила умоляет ее поднимать ноги: «Медленно, но только поднимай их, слишком заметно, что ты еле держишься на ногах. Давай, Лизетта, мы почти на месте, ты вскидываешь голову, поднимаешь ногу». Лизетта старается. «Мила, я сейчас схожу под себя». Мила не отвечает и идет не останавливаясь. «Держись прямо». На входе в лазарет Мила сплевывает накопившуюся во рту мокроту. На термометре: у Милы – сорок градусов, у Лизетты – сорок один.
Здесь ждут десятки женщин: кто стоит, кто сидит на земле, а кто и вовсе лежит. Они стонут. Чешутся. У одной женщины из черной зияющей дыры, где должен быть глаз, течет кровь. Некоторые терпеливо ожидают, опустив подбородок на грудь и согнув шею, или беспрестанно дрожат, покрытые красными пятнами на коже или гноящимися ранами.
– Поспи, Лизетта, обопрись на мое плечо.
– Мила, они меня убьют.
– Тс-с-с, спи.
Солнце медленно движется за окном, бледный ореол под слоем синей краски. И начинается безнадежное ожидание, постоянно прерываемое еле видимыми движениями, морганием, вздыманием груди, соскальзыванием с плеча головы Лизетты, которую нужно постоянно поправлять. На плече увеличивается пятно слюны. Солнце исчезает в углу окна. Теперь Мила умеет читать по солнечному пути, она может определить время по положению солнца на небе. Они здесь по меньшей мере четыре часа. Когда Лизетта просыпается, она смотрит на женщин вокруг, слышит речитатив их страданий и вдруг объявляет: «Идем отсюда». Мила удерживает ее за руку. Лизетта тянет в противоположную сторону, в бешенстве впивается ногтями в тело Милы: «Или мы уходим, или я им расскажу, что ты беременна». Голос вызывает: «Номер 37569! Номер 27483!» Мила, оторопев, в упор смотрит на кузину. В безумном взгляде Лизетты она видит не страх, а невероятное желание жить. И тогда она берет Лизетту под руку, и они возвращаются в блок.
Жоржетта говорит, что с этого момента начинается другая жизнь. Игра в прятки – нужно прятать Лизетту, чтобы уберечь ее от работы. Теперь жизнь Лизетты зависит от тех, у кого «розовые карточки» и кто остается на целый день вязать в блоке, от их молчания. Она также в руках более молодых и работоспособных Verfügbars, не занятых работой, которые ежедневно рискуют своей шкурой ради лишнего рта: они незаметно поднимают Лизетту на балки крыши и засовывают ее под соломенный тюфяк вместе с крысами. Она в руках подруг, которые делят с ней суп; ведь если тебя нет на поверке, нет на работе, то нет и пайки. Она в руках женщин, которые разгружают брикеты между озером и домами эсэсовцев, потому что они должны были согласиться обменять свой уголь, чтобы из него сделать черную пудру для кишечника Лизетты. А также в руках Милы. «Ты запомнишь название медикаментов, которые вы найдете в вагонах, – говорит Жоржетта, – и закопаешь их, а я тебе скажу, нужно ли их брать». В руках Stubowa. «Надеемся на ее снисходительность, на ее слепоту или на то, что она идиотка. Надеемся на то, что она не увидит и не услышит, что до поры до времени ее глаза и уши будут закрыты». – «До каких пор?» – спрашивает Мила. «До тех пор, пока это будет нужно» – отвечает Жоржетта. Что означает: до тех пор пока Лизетта не выздоровеет или не умрет.
Четырнадцатое июля. Мила разгружает банки с краской. Дади свистит, это сигнал. Не раскрывая рта и стиснув зубы, как все француженки, разгружающие вагоны с награбленным, Мила поет «Марсельезу». Для Милы это даже не поступок. Она это делает, потому что так поступают все остальные. Не думать ни о чем. Женщины сказали: «Когда свистнет Дади, вы начинаете напевать» – она и поет. Она позволяет собой управлять, вот и все. С платформы доносится легкий гул, не прерывающий привычных движений тел, и так продолжается до тех пор, пока надзирательница, невосприимчивая к незначительному изменению звуков, продолжает беседовать с эсэсовцем; руку она держит на бедре, вокруг запястья – гибкий собачий поводок. Вдруг она прислушивается. Она смотрит на заключенных – каждая на своем месте, в тех же лохмотьях, все повторяют неизменные «хореографические» движения. И тут она слышит пение. Ruhe! Ruhe! Она бьет наугад. Тщетно. Прикрываясь руками, француженки сносят удары и допевают «Марсельезу» до конца. Что могут потерять приговоренные к смерти?
Когда Мила возвращалась с разгрузки вагонов, ампула кардиозола [34] натерла ей ногу до синяка. Она сунула ее в носки, которые связали «розовые карточки» и которые были идеальным тайником. Она не знает, найдет ли Лизетту: спрятали ли ее снова Verfügbars, будет ли Stubowa молчать. Да и неизвестно, подействует ли кардиозол. Она устала. Хоть бы ампула не разбилась… На противоположном берегу озера идет колонна. До этого момента Мила не видела на том берегу никого, кроме детей и рыбаков. Две колонны идут навстречу друг другу. Они сближаются, ноги ударяют о землю в неровном ритме. Против света вырисовываются силуэты. И вскоре становится ясно, что они в штанах. Это мужчины. Колонна женщин замедляет шаг. «Schneller, Sauhund!» Топот мужских ног, топот женских ног, они должны где-то пересечься. Женщины останавливаются, изучают колонну. Мужчины-заключенные проходят на расстоянии вытянутой руки, тяжелой поступью, устало волоча ноги, и, конечно, они хотят продлить это мгновение. Мужчины. Дыра во времени, дыра в пространстве. Мила пристально смотрит на первого попавшегося ей на глаза, пока уже не может повернуть голову. Запечатлить в памяти хоть одно лицо. «Schneller, Schweinerei!» Чтобы лучше запомнить, она перечисляет в уме: светлые глаза, добрый взгляд, невысокий рост, лысый, тонкий нос, пухлые губы, широкий лоб, прорезанный морщинами. Она успела рассмотреть его лохмотья, опухшие кисти рук и – самое главное – волосы на груди. Мужские волосы, волнующие до слез. Они виднеются из-под воротника робы и ярко контрастируют с отражениями сорока тысяч таких, как она. Она смотрит на этого человека с волосами. Некрасивый. Худой. Страждущий. О, если бы только пришить пуговицу на его робе, чтобы он закрыл свою грудь, чтобы он не замерз. Кто знает, возможно, он догадался, что у нее под платьем еще осталось кое-что от груди, от женской груди, тогда он тоже вспомнил об ужасе, о гнетущей его печали и пожалел самого себя. Колонна удаляется, движение возобновляется. Мила нажимает на глаза ладонями, вдавливает глазные яблоки, только бы стереть образ мужчины. Перед глазами расплываются большие черные пятна.