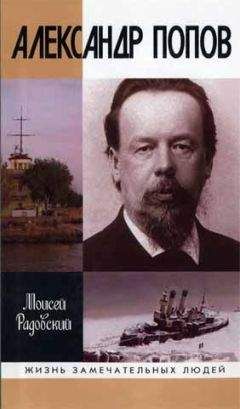Все-таки это чудо: яркое и рискованное короткое представление, обогатившее скромный репертуар развлечений нынешнего дня. Побольше бы таких устраивать по всей стране, хотя, конечно, есть риск, что чей-то парашют не раскроется.
Толпа начинает распадаться на отдельные, но благодарные элементы. Танцовщицы – юбки их завязаны спереди узлами, как у женщин фронтира, – возвращаются на танцпол, кто-то вновь запускает деревенскую музыку – сначала играет напыщенная скрипка с гавайской гитарой, затем хрипловатый женский голос запевает: «Если бы ты любил меня хоть вполовину так, как тебя я».
Я выбираюсь из машины на траву и оглядываю небо в поисках самолета, из которого выпрыгнули парашютисты, какой-нибудь маленькой бормотливой точки в бесконечности.
Как и всегда, меня интересует именно это. Нет, прыжок, разумеется, тоже, но прежде всего рискованное вместилище, из которого он совершен; привычное средство безопасности, заурядное и предсказуемое, благодаря которому лебединый нырок в пустой, невидимый воздух выглядит совершенным, прекрасным – тем, что и я хотел бы проделать.
Стоит ли говорить, что я никогда и не подумал бы прыгать, даже если бы научился с точностью минера укладывать парашют, обзавелся друзьями, рядом с которыми и смерть не страшна, своими руками смазал все, что следует смазать, в самолете, раскрутил его пропеллер, привел крылатый гроб в назначенную точку и даже произнес слова, которые все они наверняка произносят хотя бы про себя, – так? «Жизнь слишком коротка» (или длинна). «Мне нечего терять, кроме моих страхов» (неверно). «Много ли стоит любая вещь, если ты не рискуешь лишиться ее?» (Сгодилось бы, уверен, как девиз апачей.) Вот причина, по которой я не стал бы так рисковать, я вам всегда могу ее назвать: для меня любой провод, самолет, перрон, мост, подмости, подоконник – все они суть предметы моего опасливого внимания, все льстят моему самообладанию прозаическими угрозами куда большими, нежели риск блестящей, дерзновенной смерти, – я не герой, что еще годы назад отметила моя жена.
Однако в небесах ничего не видно, нет там низко кружащей «Сессны», только на высоте в мили и мили серебристо поблескивает игольное ушко, это большой «Боинг» или «Локхид» торит путь к океану и за него – зрелище, которое чаще всего внушает мне тоскливое желание оказаться где угодно, только не там, где я есть. Впрочем, нынешний день, когда почти разразившаяся катастрофа еще так близка, хоть и миновала уже, заставляет меня радоваться тому, что я здесь. В Хаддаме.
И я опять принимаюсь кружить по городу, оставаясь лишь наблюдателем и имея целью исправление – мое и прочих граждан – к лучшему. Еду по Готической мимо усадьбы, мимо огражденной самшитами территории Института, сворачиваю к пестреющей дубами улице Кулиджа, с которой выскакиваю на Главную, более широкую и в меньшей степени перестроенную Джефферсона и по ней добираюсь до Кливленд-стрит, где в земле перед моим домом и домом Замбросов продолжаются поиски свидетельств истории и связи времен. Впрочем, нынешним утром никто в ней не роется. Две шелковицы и экскаватор соединены желтой лентой «место преступления», которая огораживает ту яму, где была обнаружена в оранжевой глине «улика». Я заглядываю туда из окна моего автомобиля, выходить наружу мне по некоторой причине не хочется, но хочется увидеть какое-либо, все равно какое, убедительное свидетельство – ведь по правому борту стоит мое собственное жилище. Но в открытой траншее обнаруживается всего лишь кот, большой черный котяра Мак-Ферсона, старательно закапывающий следы совершенного им частного дела. Время – и то, что впереди, и то, что сзади, – вдруг начинает казаться не имеющим к моей улице отношения, и я с легкой душой удаляюсь, ничего не обнаружив, но недовольства не ощущая.
Я проезжаю по извилистой Тафт-лейн, пересекаю территорию Хорового колледжа, тихую, пустынную, с закрытыми на лето, лишившимися привычного эха приземистыми кирпичными зданиями; только на теннисных кортах и видны равнодушные к параду граждане.
Неторопливый поворот, и я еду мимо средней школы, по спортивным площадкам которой слоняются шестьдесят музыкантов школьного оркестра в красных туниках на потных плечах, с тромбонами и трубами в руках, инструменты более основательные – барабаны, сузафоны, тарелки, висящий в собственной раме китайский гонг и маленькое пианино – уже стоят на крыше школьного автобуса, привязанные ремнями и готовые к недолгой поездке до «Ритуала покупок».
Далее по Плизант-Вэлли-роуд, вдоль западной границы кладбища, где из многих могил торчат маленькие американские флаги и где мой первенец Ральф Баскомб лежит рядом с тремя из тех, что «первыми подписали» Декларацию независимости, однако я здесь покоиться не буду, поскольку ранним сегодняшним утром, проникшись желанием перемен и прогресса, а также потребностью оставить за собой последнее слово, я решил (лежа в постели и листая атлас) лечь в землю в такой дали отсюда, какая не будет казаться совсем уж смехотворной. По первости я выбрал городок Кут-Офф [122], штат Луизиана; Эсперанс [123], штат Нью-Йорк, показался мне чрезмерно близким. Мне требовалось место с мирным пейзажем, по возможности без дорожного шума, с минимумом суетной истории, такое, куда человек, который приедет меня навестить, приедет лишь по той причине, что ему или ей только того и хотелось (чтоб не было рядом никаких национальных и развлекательных парков наподобие «Ледника» или «Шести флагов»), а приехав, обнаружит, что место для своей могилы я выбрал по очень здравом размышлении. А перспектива быть похороненным «у себя», рядом с моим прежним домом и навечно рядом с моим навечно юным утраченным сыном, свяжет меня по рукам и ногам и, весьма вероятно, не даст мне извлечь максимум возможного из лет, которые мне осталось прожить. Эта мысль так и пребудет со мной во всех моих повседневных хлопотах, связанных с продажами домов: «Когда-то, когда-то, когда-то я упокоюсь здесь…» Такое еще и похуже пожизненной профессорской должности в Принстоне.
Самое сильное чувство, какое я испытываю ныне, минуя эти улицы, переулки, проезды, аллеи и дома, когда разъезжаю здесь по обычным моим делам – чтобы сфотографировать выставленный на продажу дом, присмотреть что-либо похожее на него для сравнительного рыночного анализа, составить компанию оценщику, – сводится к тому, что продолжать равняться на жизнь, которую мы сами себе обещали в шестидесятых, становится до чертиков трудно. Мы норовим ощущать общество, в котором живем, как нечто постоянное, целостное, как сказал бы Ирв, вцепившееся якорем в скалу стабильности; но мы же знаем, что это неправда, что на самом деле под поверхностью всего сущего (или гораздо выше оной) все обстоит как угодно, но только не так. И мы, и общество держимся якорем за непредвиденность и походим на качаемую волнами бутылку, которой хочется лишь одного: чтобы вертело ее потише. И любая попытка удержаться на плаву нас лишь утопит.
Впрочем, можно усмотреть в моей жизни и сторону более светлую – особенно если помнить, что хорошие новости часто принимаются за плохие. Жизнь риелтора, временами обращающая тебя в Поллианну [124], позволяет также крепко держаться за непредвиденность и даже предлагать ее людям в качестве источника силы, более того, подлинной само-оправданности, ведь риелтор верует в то, что у человека должен быть дом – и что человек его получит. В этом смысле риелторство есть «истинно американская профессия, идущая рука об руку с фундаментальным пространственным опытом существования: побольше людей, поменьше места, поскуднее выбор». (Это я, разумеется, в книжке вычитал.)
Два – ну пусть будет два — здоровенных мебельных фургона бок о бок стоят в это позднее праздничное утро перед двумя домами Лауд-роуд прямо за углом от моего прежнего некогда счастливого семейного гнезда на Хоувинг. Один – быковатый, зеленый с белым «Бекинс» – открыт с трех сторон, другой, сине-белый «Атлас», разгружают сзади. (Увы, желто-зеленый «Мейфлауэр» отсутствует.) Торчавшие перед каждым домом таблички «ПРОДАЕТСЯ» заклеены стикерами «ЭТОТ ДОМ ВЫ УПУСТИЛИ». Дома не наши; впрочем, и «Богемии», «Покупай и расти» или новой конторе из Нью-Египта они тоже не принадлежат, но находятся в ведении респектабельной «XXI век» и народившейся лишь прошлой осенью «Колдуэлл Бэнкер».