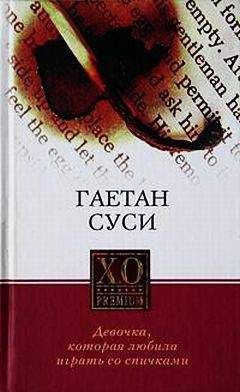А еще я это к тому говорю, что, когда я увидела, на какое святотатство он покушается, зажав в руке пилу, я ничуть не встревожилась, совсем ни капельки, а стала только мягко, как женщина, успокаивать его, убеждая объяснить мне до того, как он что-то начнет делать, почему он с такой решимостью собирается резать папу на кусочки. Можете себе представить, что он мне ответил? Вот что он мне сказал:
— Перед тем как папу хоронить, его надо обратить в пепел.
У лошади, как и у меня, причиндалы не висят, это я вам говорю на тот случай, если раньше сказать запамятовала, но она все еще была обмотана веревкой вокруг брюха, как подпругой, которую я намотала, чтобы тащить этот поганый могильный ящик, а конец той веревки так и болтался у нее между ног, как отвисший причиндал. Дело в том, что лошадь вошла в дом следом за мной, а это было из ряда вон выходящим событием, свидетельствовавшим о том, что не все в порядке в датском королевстве. Она легла на бок, и, поскольку одна половина ее большого брюха была прижата к полу, вторая его половина очень увеличилась в размерах, если я доходчиво выражаю свою мысль, и это напомнило мне папину грудь в те золотые времена, когда он еще дышал. Внезапная и совершенно необычная рассудительность доводов моего брата озадачила меня, бедняженьку, чуть не до потери пульса:
— Ты пошел в селение за гробом. Где же твой гроб?
— Во-первых, это гроб не мой, а папин. А во-вторых, я не смог его там найти.
Брат забурчал себе что-то под нос, забубнил, раньше я такого бурчания никогда от него не слыхивала, хоть возможностей у меня для этого было предостаточно. Потом он резко смолк и бросил в мою сторону помутившийся взгляд, причем смотрел он на меня прищурившись, и в зрачках у него отражалось что-то такое, от чего у меня мурашки пошли по коже.
— У нас нет такого большого ящика, чтобы целиком положить в него папу, — сказал он, — и вина в том твоя.
Я бросила на него взгляд, полный оскорбленного достоинства.
— Да, ты в этом виноват! Поэтому мы его сожжем. Возьмем его прах, если тебе ясно, что я имею в виду, и положим его в миску от папиных острых перцев, чтобы похоронить ее с ним внутри. А теперь посмотри сюда, видишь, какого размера наша печка? Попробуй-ка, затолкай туда бренные останки мертвеца!.. Мы должны будем жечь его по кускам.
И зубья пилы уже коснулись папиной ноги. Знаете, сказать, что меня охватила паника, это то же самое, что вообще ничего не сказать.
— Нет, прекрати! Мы не можем так поступить!
— Ты можешь предложить что-то другое?
Пила, которой он стал махать у меня перед носом, извивалась и так музыкально звенела, что в другое время и при других обстоятельствах, я бы, наверное, от этого захихикала.
— А потом мы возьмем все его бумаги и ящик с феиными магическими чарами и похороним их вместе с ним. И еще Справедливую Кару, чтоб ты знал. Мы все это вместе со Справедливой Карой зароем в одной яме!
— Справедливую Кару?
Такое он сделать не мог. Такое он просто не мог сделать.
— Но мы же тогда лишимся дара речи!
К счастью, папины останки стали твердыми, как камень, то, как утром его тело окоченело, было просто шуткой, по сравнению с тем, как оно окоченело сейчас, а я-то знаю, что по большому счету братец мой лентяй, и скоро ему надоест справляться с той задачей, которую он перед собой поставил. Из папы вытекло всего несколько капель крови, цвет ее был каким-то странным, она стала такой густой, что даже и не текла, как следует, и это дало мне какое-то время, чтобы на меня снизошло озарение, если это то самое слово, которое я имею в виду, и в конце концов оно на меня снизошло.
— Они придут сюда грабить наше добро, как бандиты! Орды ближних готовы на нас наброситься. Они все у нас отнимут, мы даже на кухне не сможем больше жить.
Услышав это, он застыл, как будто его хватил паралич.
— Что ты сказал?
Есть такие обстоятельства, которые не подвластны нашему контролю, когда нам приходится повторять только что сказанное, пусть слова меня простят. Я повторила ему приведенный выше абзац более или менее дословно.
У братца моего аж шея позеленела.
— Я тебе сейчас объясню, — сказала я, воспользовавшись его оцепенением, чтоб забрать у него пилу.
Ни слова не говоря, он дал мне это сделать, челюсть у него отвисла, и он, пребывая все в том же оцепенении, покорно прошел несколько маленьких шажков, как, бывало, шел после того, когда папа для профилактики колотил его головой о ствол дерева. Я тянула братишку за собой в библиотеку.
Что касается словарей, так я уверена, что у нас их было больше, чем сосен в сосновой роще, может быть, даже больше, чем веток у тех сосен, у нас их были мириады, если такая вещь существует на самом деле. Уж не знаю, прочитала ли я хоть половину из них, но, должна вам сказать, читала я их предостаточно. Я себе все время повторяю, что в один прекрасный день все их прочту, по крайней мере те, которые не порваны и не рассыпаются в руках в прах, как отсыревшая мука, но я ничего не могу с собой поделать, мне всегда хочется перечитывать самые мои любимые, те из них, в которых повествуется о блистательных кавалерах в доспехах, сверкающих, как ложки, этику спинозы, которая сбивает меня с толку, как все великие истины, не говоря уже о воспоминаниях графа де Сен-Симона. Не знаю, в каком уголке мироздания происходили все эти истории, в каких заморских странах, исходя из того, что я повидала, мне трудно поверить, что такие вещи вообще случаются на земле, особенно теперь, когда я собственными глазами видела, на что похоже село, потому что оно совсем не оправдало витавших в моем воображении ожиданий, но, когда я читаю графа де Сен-Симона, меня как будто кружит в вальсе. Меня кружит в танце в самых дальних закоулках сознания, как будто от грохота призрачных армий, развеивающихся дымом, потому что маленькая козочка способна понять лишь малую толику Сен-Симоновой премудрости, но когда я его читаю, я будто на крыльях парю в поднебесье, и все тут. Например, чтобы избежать раздоров и разладов, король покончил со всеми церемониями и постановил, что в его покоях не будет проводиться ни одна помолвка, а браки будут заключаться сразу же в часовне, и поэтому отпала необходимость ради этих церемоний носить длинный камзол со шлейфом и расшитыми вставками, такие камзолы теперь каждый день носили только телохранители принцессы, находившиеся при исполнении обязанностей, а еще, чтобы покров держали епископ меца, назначенный королем в первосвященники в память о дяде, и местный священник короля, которым был назначен аббат морель к тому дню, когда монсеньор герцог бургундский один должен был подавать принцессе руку, как при входе, так и при выходе из часовни, и ни один князь не мог ставить свою подпись в книге священника после монсеньора герцога, причем обо всем этом Сен-Симон написал в одном предложении, и если мне удалось чему-то научиться как секретариусу, то этим я обязана графу, его громогласному голосу, его потрясающим историям и его построению фраз, в которых слова взбираются к вершинам смысла с треском горящего полена, вы уж мне поверьте, если поняли, что я имею в виду.
Сырость, постоянно и непрестанно исходящая из земли, уже сделала свое мокрое дело с частью словарей, провела уже свою долгую, неспешную и неумолимую работу, поразив их плесенью, влажность гложет все наши владения, и словари гибнут естественной смертью, как и все остальное, гниение все доканывает, оно свое дело знает туго! Меж стопок книг, так наши словари на самом деле называются, надо расчищать проходы, они выше нашего с братом роста, и, поскольку нам неведомы диковинные земли рыцарей и иисуса, такое хождение среди словарных курганов до последнего времени приводило меня в самое пьянящее возбуждение на этой планете, если не считать тех кратких минут, что мы провели вместе, и ты снизошел до того, чтобы прижать меня к груди, пока язык мой блуждал по лику твоему, о, доблестный мой рыцарь, и тех мгновений, когда я танцую с моими бликами света, о чем я расскажу дальше. Не было и речи о том, чтоб лошадь следовала за нами, всему есть свои пределы. Я запретила ей это одним взглядом, и она осталась стоять на пороге, являя собой жалкое зрелище с разноцветными своими глазами. Лошадь обделена лишь даром речи, но даже это зависит от того, что вы называете речью. Мы с братом уселись на какие-то старинные подушки, покрытые бархатными гардинами, которые, очевидно, в те славные дни, когда нас и в проекте не было, украшали высокие окна библиотеки с разбитыми стеклами, откуда сюда задувает ветер, порой несущий град и вихрящиеся тучи снежинок, эти подушки, покрытые старыми бархатными гардинами, служили мне постелью, когда я не спала под звездным небом, о чем, мне кажется, я уже писала. Я стала рассказывать брату о том, что произошло в селе, смотрите выше, опуская тем не менее некоторые эпизоды, которые, в соответствии с моими представлениями о приличиях, могли показаться непристойными, и вопросы, которые он мне задавал, были такими странными, он в таких подробностях вдавался во многие детали, причем детали настолько незначительные, что временами я даже не знала, что ему ответить, и заняло это целых тридцать-шестнадцать дождливых дней, но в конце концов он все-таки ухватил суть дела, которую я заставляла его повторять, как урок, чтобы вполне убедиться в том, что он уяснил себе суть той передряги, в которую мы попали. А после этого он смолк, будто воды в рот набрал. Он взял бутылку чудесного вина, потому что отец, бог знает, почему, всегда настаивал, чтобы вино хранилось в библиотеке, и стал братец пить вино из горлышка, уставившись прямо перед собой таким взглядом, будто принимает серьезные решения со всеми вытекающими из них последствиями. Я-то знаю, как вино может ударить в голову, и мне казалось, что теперь для этого был не самый подходящий момент.