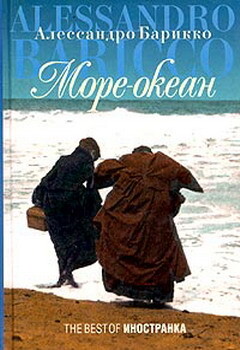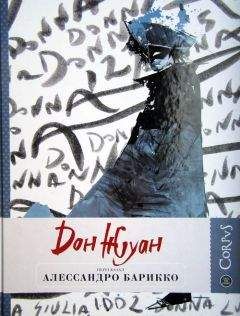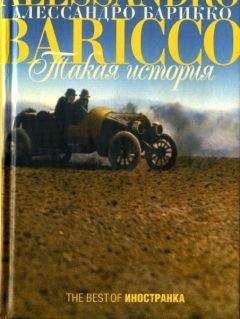Есть только море. Все стало морем. Мы, покинутые землей, стали морским чревом, и морское чрево — это мы, и в нас оно дышит и живет. Я смотрю, как оно танцует в своей накидке, искрящейся весельем его же собственных невидимых глаз, и наконец понимаю, что никто из людей не повержен, ибо все это — лишь триумф моря и его слава, а значит, значит ХВАЛА, ХВАЛА, ХВАЛА ЕМУ, морю-океану, что могущественнее всякого могущества и великолепнее всякого великолепия, ХВАЛА И СЛАВА ЕМУ, господину и рабу, жертве и палачу, ХВАЛА; земля благоговеет при его появлении и лобзает душистыми губами край его накидки, его — СВЯТОГО, СВЯТОГО, СВЯТОГО, утробы всякого новорожденного и чрева всякого усопшего, ХВАЛА И СЛАВА ЕМУ, пристанищу всякой судьбы и вечно бьющемуся сердцу, началу и концу, источнику и горизонту, властелину ничего и учителю всего, да будет ХВАЛА И СЛАВА ЕМУ, господину времени и владыке ночей, единому и неповторимому, ХВАЛА, ибо Его горизонт и Его утроба, бездонная и непостижимая, и СЛАВА, СЛАВА, СЛАВА ЕМУ в поднебесье, ибо всякое небо в Нем отражается и теряется, и всякая земля Ему уступает, Ему, непобедимому. Ему, желанному избраннику луны, радетельному отцу ласковых прибоев, перед Ним да преклонится весь род людской и воспоет Ему песнь ХВАЛЫ И СЛАВЬ!, ибо Оно внутри людей и в них растет, и они живут и умирают в Нем, и Оно для них тайна и цель, истина и приговор, спасение и единственный путь к вечности, так есть и так будет, до скончания века, которое и будет концом моря, если у моря будет конец, у Него, Святого, Единого и Нераздельного, Моря-Океана, Ему же ХВАЛУ И СЛАВУ воссылаем, ныне и присно и во веки веков.
АМИНЬ.
АМИНЬ.
АМИНЬ.
АМИНЬ.
АМИНЬ.
АМИНЬ.
АМИНЬ.
АМИНЬ.
АМИНЬ.
АМИНЬ.
АМИНЬ.
Первое первое — это мое имя; первое — это мое имя; второе — их глаза; первое — это мое имя; второе — их глаза; третье — назойливая мысль; четвертое — крадущаяся ночь; первое — это мое имя; второе — их глаза; третье — назойливая мысль; четвертое — крадущаяся ночь; пятое — истерзанные тела; шестое — голод; первое — это мое имя; второе — их глаза; третье — назойливая мысль; четвертое — крадущаяся ночь; пятое — истерзанные тела; шестое — голод; седьмое — ужас; восьмое — безумные видения; первое — это мое имя; второе — их глаза; третье — назойливая мысль; четвертое — крадущаяся ночь; пятое — истерзанные тела; шестое — голод; седьмое — ужас; восьмое — безумные видения; девятое — мясо, а десятое — человек, который пожирает меня глазами и не убивает. Его зовут Томас. Он самый сильный из них. Потому что самый хитрый. Мы не смогли его убить. В первую ночь попытался Лере. Потом Корреар. Но он семижильный, этот Томас.
Уже полегли все его товарищи. На плоту нас осталось пятнадцать человек. Один из них — Томас. Он долго отсиживался в дальнем углу. Затем медленно пополз к нам. Каждое движение требует непомерных усилий. Я это хорошо знаю, ибо со вчерашнего дня не могу сдвинуться с места и решил умереть здесь. Всякое слово вызывает пронзительную боль, всякий жест — невыносимое напряжение. А он все ближе и ближе. За поясом у него нож. Ему нужен я. Я знаю.
Одному Богу известно, сколько прошло времени. Нет больше ни дня, ни ночи. Вместо них — неподвижная тишина. Мы на дрейфующем кладбище. Открываю глаза — он уже здесь. Не знаю, кошмар это или явь. Может, я просто сошел с ума? Наконец безумие добралось и до меня. Хотя, если это безумие, то от него не легче, наоборот — одни страдания. Хоть бы он что-нибудь сделал, этот Томас. Но он только смотрит в упор, и все. Еще шаг — и он навалится на меня. Я безоружен. У него нож. Я полностью обессилел. В его глазах спокойствие и решимость зверя, готового к прыжку. Невероятно, но Томас еще способен ненавидеть. В этой поганой тюрьме, плывущей по воле волн, осталась одна смерть. Невероятно, но он еще помнит. Если бы я мог говорить, если бы во мне еще теплилась жизнь, я сказал бы ему, что вынужден был это делать, что в этом аду нет ни жалости, ни вины, нет ни меня, ни его, а есть только море, море-океан. Я велел бы ему не сверлить меня глазами, а поскорее прикончить. Пожалуйста. Но я не в состоянии говорить. Он не двигается и не сводит с меня глаз. И не убивает меня. Когда-нибудь это кончится?
Вокруг страшная тишина. На плоту давным-давно никто не стонет. Мертвые уже умерли, живые только ждут. Не слышно молитв и криков — ни звука. Море легонько пританцовывает, нашептывая что-то на прощанье. Я не чувствую ни голода, ни жажды, ни боли. Ничего, кроме невыносимой усталости. Открываю глаза. Этот человек все еще здесь. Закрываю глаза. Убей меня, Томас. Или дай спокойно умереть. Ты уже отомстил. Уходи. Переведи взгляд на море. Я уже ничто. Моя душа больше не моя, не лишай меня смерти этим взглядом.
Море легонько пританцовывает.
Не слышно молитв и стонов — ни звука.
Море легонько пританцовывает.
Увидит ли он, как я умру?
Люди зовут меня Томасом. А это — рассказ о подлости. Я пишу его в моей памяти, собрав остаток сил и глядя на этого человека, которому не будет прощения. Мой рассказ прочтет смерть.
«Альянс» был могучим и большим кораблем. Море никогда бы не одолело его. На такой корабль идет три тысячи дубов. Плавучий лес. Он сгинул по людскому недомыслию. Капитан Шомаре то и дело заглядывал в карты, измеряя глубину мелководья. Но капитан не умел заглядывать в море. Не умел распознавать его цвета. «Альянс» зашел на Аргенскую банку, и уже никто не мог его остановить. Странное кораблекрушение: как будто приглушенный стон раздался из недр судна и оно застопорилось, дав легкий крен. Замерло.
Навсегда. Я видел, как борются с яростной бурей могучие корабли и как, сдавшись, они исчезают в волнах высотою с замок. То были поединки.
Прекрасные. «Альянсу» так и не довелось побороться. Тихий конец. Вокруг расстилалось почти ровное море. Противник был внутри, а не супротив. И вся его сила была пшиком перед таким противником. Многие люди погибали на моих глазах в этой схватке. Но корабли — никогда.
Корпус судна начал трещать. Было решено покинуть «Альянс» и соорудить этот плот. От плота разило смертью еще до того, как его спустили на воду.
Люди это чувствовали и толпились вокруг шлюпок, чтобы не попасть в уготованную им западню. Пришлось загонять их на плот под дулами ружей.
Капитан клятвенно обещал, что никого не бросит и благополучно отбуксирует плот до самого берега. На этой посудине без бортов, руля и ветрил они сгрудились как стадо баранов. Я был одним из них. Там были матросы и солдаты, несколько пассажиров, а еще четверо офицеров, картограф и врач по фамилии Савиньи. Последние обосновались в центре плота, возле скудных запасов провизии, которая уцелела во время суматошной высадки с корабля. Они стояли на огромном ящике, а мы теснились вокруг, по колено в воде, притопив своим весом скороспелый плот. Уже тогда я должен был все понять.
Я запомнил эти минуты навсегда. Шмальц. Губернатор Шмальц. Именем короля под его начало были отданы новые колонии. Его спустили с правого борта в кресле. Позолоченном, бархатном кресле. Он восседал на нем с невозмутимостью литого памятника. Пока еще пришвартованные к «Альянсу», мы уже боролись с морем и страхом. А он преспокойно висел в воздухе и спускался в свою шлюпку, ну прямо херувим из театральных представлений. Губернатор и его трон раскачивались словно маятник. И я подумал: болтается, как повешенный на рее, когда тянет вечерним бризом.
Не знаю, в какой именно момент они нас бросили. Я пытался устоять на ногах и прижимал к себе Терезу. Вдруг раздались крики и выстрелы. Я поднял голову. И над десятками ныряющих голов и кромсающих воздух рук увидел море, и уплывающие вдаль шлюпки, и пустоту между ними и нами. Я не верил своим глазам. Я знал, что они не вернутся. Мы были во власти случая. Нас могло спасти только везение. Но побежденным никогда не везет.