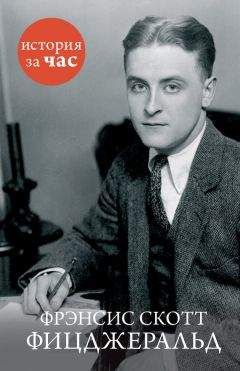– Им никто не пользуется, – ответил Питер. – Там чердак, а люк заколочен.
Неожиданно он вспомнил о шесте и затаил дыхание, но человек отвернулся, закончив обыск.
– Чтобы залезть туда без лестницы, надо минут десять хотя бы, если он, конечно, не акробат.
– Акробат… – как эхо, повторил старший.
– Пошли.
Они тихо удалились, печальные и бессильные, а Питер закрыл за ними дверь и запер ее на засов. Выждав десять минут, он взял шест и сдвинул крышку люка. И когда гость вновь предстал перед ним, он начал:
– Ты всегда был коварен и жесток, как дьявол, – твою жизнь нельзя представить без выпивки, женщин и крови, – но услышать своими ушами хотя бы намек на то, что мне говорили эти двое…
Гость перебил его:
– Питер, тебе не понять. Ты не раз помогал мне. И должен помочь мне сейчас! Ты меня слышишь? Я не хочу с тобой спорить. Мне нужны перо, бумага и твоя спальня, Питер! – Он разозлился. – Питер, неужели ты пытаешься мне мешать? По какому праву? За то, что я совершил, я отвечу лишь перед самим собой!
Не сказав ни слова больше, он взял со стола перо, чернила и кипу бумаги и прошел в соседнюю комнату, прикрыв за собой дверь. Питер вздохнул, пошел было за ним, но передумал – вернулся, взял «Королеву фей» и сел на стул.
В четыре утра на улице стало холодно и влажно, а в комнате – темнее. Питер же, низко склонившись над столом, напряженно следил за сюжетом «Королевы фей». Снаружи, с узкой улицы, слышалось громкое фырканье драконов, а когда в пять утра заспанный подмастерье оружейника приступил к работе, эхо превратило громкий звон наколенников и кольчуги в шум марширующей кавалькады.
С первым лучом солнца появился туман, и, когда в шесть утра Питер на цыпочках подошел к своей спальне и открыл дверь, комнату заливал серо-желтый свет. С покрасневшими невидящими глазами, бледный, как смерть, гость обернулся к нему. Он писал, не останавливаясь, и на молитвенной скамье, на которой он писал, громоздились кипы исписанной бумаги, а по полу были разбросаны клочки почти нетронутых страниц. Питер тихо закрыл дверь и вернулся к своим сиренам. Шум шагов на улице, брюзжащие голоса соседских старух и глухой утренний шум подействовали на него расслабляюще, и он тяжело опустился на стул, а его засыпающий разум продолжал переваривать заполнявшие его беспорядочные образы. Вот он оседлал облако, а путь к небесам лежал по стонущим телам, поверженным под палящим солнцем. Вот он содрогнулся и двинулся вперед. А вот он очутился в лесу, где убил райскую птицу из-за ее перьев. Кто-то пытался обменять его душу на весь мир, и обмен состоялся! Он проснулся, вздрогнув от прикосновения горячей руки к плечу. В комнате висел густой туман, а гость, стоявший рядом с кипой бумаги в руке, казался серым призраком, сотканным из воздуха.
– Прочти это, Питер, а потом убери куда-нибудь и не буди меня до завтрашнего утра!
Питер с любопытством взял листы. Гость растянулся на кушетке, ровно задышал и мгновенно погрузился в глубокий сон, лишь уголки его бровей нервно подрагивали.
Питер устало зевнул и взглянул на небрежно исписанную первую страницу, а затем негромко начал читать вслух:
Поругание Лукреции
Из лагеря Ардеи осажденной
На черных крыльях похоти хмельной
В Колладиум Тарквиний распаленный…
Чувства и мода на пудру
Эта история не обладает никакой ценностью с точки зрения морали. Она о человеке, который два года воевал, затем на два дня вернулся в Англию, а после этого опять отбыл в неизвестном направлении. К сожалению, это одна из тех историй, которые просто обязаны начинаться с начала, но до начала необходимо кое-что рассказать.
Два брата, сыновья лорда Блэнчфорда, приплыли в Европу в числе первой сотни тысяч добровольцев. Старший, лейтенант Ричард Харрингтон, был убит во время одного из первых, бесславных, маршей; младший, лейтенант Клэй Харрингтон Сайнфорс, и есть главный герой этого рассказа. К началу рассказа он уже капитан Семнадцатого Сассекского полка, и то безнравственное, о чем, собственно, и пойдет речь, произошло именно с ним. Читатель должен обязательно запомнить, что к тому моменту, когда отец встретил его на Паддингтонском вокзале и повез на машине в город, герой не был в Англии уже два года. А кроме того, на дворе стояла ранняя весна тысяча девятьсот семнадцатого. Причинами произошедшего стали самые разные обстоятельства – ранения, радость от повышения по службе, встреча с семьей в Париже и даже то, что в двадцать два года всегда хочется казаться всем вокруг сгустком неутомимой жизненной энергии. Кроме того, большинство его друзей и ровесников были убиты на фронтах войны, и он испытывал ужас, чувствуя, какие бреши остались после их ухода в его Англии… Ну что ж, теперь можно начинать.
За обедом он почувствовал себя слишком мрачным и молчаливым, что в данной ситуации не подобало. Его сестре пришлось развлекать веселой болтовней всех сидящих за столом: лорда и леди Блэнчфорд, его самого и двух чистеньких тетушек. Новая манера поведения сестры с непривычки показалась ему сомнительной. Чересчур громко и театрально, да и в таком количестве пудры красота сестры совершенно точно не нуждалась. Ей нельзя было дать больше восемнадцати, и косметика на ней смотрелась совершенно инородно. Он не был противником косметики вообще: он понимал, что, увидев, например, мать без пудры на лице, он был бы шокирован ничем не прикрытым видом ее морщин, – однако молодость Клары не нуждалась в столь красочном подчеркивании. Кроме того, столь вызывающе неестественный грим он видел впервые, и поскольку в семье его было принято общаться откровенно, он сразу же и во всеуслышание высказался по этому поводу.
– Тебя почти не видно за этой пудрой, – сказал он как бы между делом, стараясь не обидеть сестру; она вскочила и подбежала к зеркалу.
– Да нет, все в порядке, – сказала она, успокоившись и вернувшись к столу.
– Я всегда думал, – чуть рассердившись, продолжил он, – что мужчина не должен замечать, пудрилась ли дама вообще!
Сестра и мама обменялись взглядами и заговорили одновременно.
– Но знаешь ли, Клэй, в наши дни… – начала Клара.
– Действительно, Клэй, – вмешалась мать, – ты наверняка не знаешь, как изменились стандарты, поэтому лучше не критикуй. Сейчас все одержимы страстью пудриться чуть больше, чем раньше. Клэйтон рассердился еще сильнее:
– И что, теперь все дамы на танцах у миссис Северанс раскрашены точно так же?
Глаза Клары грозно блеснули.
– Да!
– Ну, тогда, наверное, мне там делать нечего.
Клара уже была готова взорваться, но, поймав взгляд матери, сдержалась и притихла.
– Клэй, я хочу, чтобы ты туда пошел, – торопливо заговорила леди Блэнчфорд. – Все будут рады увидеть тебя – пусть даже и не вспомнят, как тебя зовут. И давайте сегодня больше не будем говорить о войне и о косметике!
В конце концов он решил пойти. В десять за сестрой заехал какой-то моряк, а полчаса спустя за ними последовал и Клэй. Еще через полчаса он понял, что на сегодня с него достаточно. Ему казалось, что все шло не так, как должно бы идти. Ему вспомнились балы миссис Северанс – какими степенными, организованными по всем правилам событиями они были! Вместе приглашались только те, кого нельзя было пригласить по отдельности. Теперь же все общество уже не представляло собой единое целое – это была какая-то странная смесь. Его сестра никоим образом не преувеличивала: практически на каждой девушке, как на торте, толстыми слоями лежала пудра. И те жеманницы, которые, как он помнил, получали удовольствие от бесед с юными викариями, с жаром обсуждая вопросы применения ладана в церковной практике и законности принуждения к добродетели, и те девицы, которые раньше выглядели ужасающе мужеподобными и говорили о танцах так, словно это развлечение для слабоумных, – все были здесь и выглядели так, будто только что, едва не утонув, вынырнули из-под воды! Как автомат, он танцевал с прелестницами, о которых мечтал всю свою юность, и в конце концов обнаружил, что это не доставляет ему никакого удовольствия. Он привык думать об Англии как о стране печали и аскетизма, но за вечер он не заметил ничего такого, и ему показалось, что ближе к концу градус атмосферы скорее упал до нарочитого веселья, нежели поднялся до сурового спокойствия. Даже в обильно украшенном позолоченной лепниной доме миссис Северанс царил дух танцплощадки, а не бала: гости приезжали и уезжали безо всякой пышности, и, что было совсем уж странным, ощущалась скорее нехватка приглашенных в возрасте, а не молодежи. Главной причиной его дискомфорта было нечто неуловимое – некое полувосторженное-полубеспокойное выражение на всех без исключения лицах.