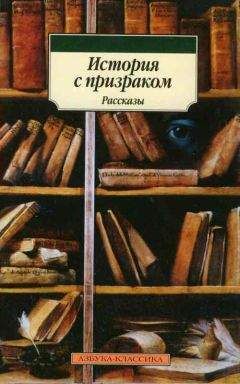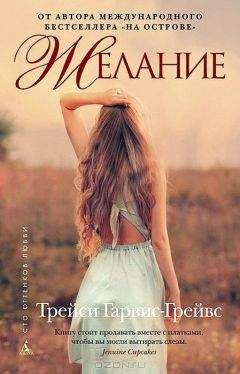Что касается моей личной жизни, то я получаю свою долю внимания… если это можно так назвать. Во всяком случае, за мной готовы ухаживать. Один молодой человек несколько раз и под разным соусом предлагал мне записать номер его факса. Он младше меня и принадлежит к числу чокнутых и не от мира сего, которые появляются у нас по субботам, во второй половине дня. Такое ощущение, что он живет в прошлом и его эпоха запаздывает лет на десять. В магазин он приходит в черно-фиолетовом синтетическом спортивном костюме. Еще один потенциальный ухажер – краснолицый и не лишенный привлекательности – признался, что я самая симпатичная женщина из числа встретившихся ему за последние месяцы. Это явное вранье. Дженна куда привлекательнее меня. Сейчас она делает вид, будто протирает полки. Конечно же, она слышит его слова и тихонечко прыскает. Я выразительно смотрю на нее. Она награждает меня не менее выразительным взглядом. А год назад внимание ко мне проявил директор местной начальной школы (в нашем городе их три), тоже завсегдатай магазина, имеющий привычку все свои книжные приобретения оплачивать за счет учебного заведения. Помню, я сложила купленные им книги в наш фирменный бумажный пакет. Директор школы потоптался на месте, откашлялся и пригласил меня в ближайший четверг на обед. Естественно, если у меня нет других планов и если я свободна. У него была обаятельная улыбка и густые черные волосы. Подозреваю, что крашеные.
Этим утром мой отец принес в магазин старые книги, принадлежавшие моей бабуне [1]. Пару лет назад мы поместили ее в пансионат для престарелых, и все это время у нас как-то не доходили руки заняться разборкой ее вещей. Имущества у нее не так уж много. Слава богу, бабуня не страдала накопительством. Нынче мой отец не настолько проворен, чтобы быстро рассортировать вещи своей матери и решить, что к чему. Я уже просматривала ее книги и взяла себе несколько – те, которые помнила с детства. Согласившись перебраться в пансионат, бабуня настояла, чтобы я взяла себе любые ее вещи, какие мне понравятся. По ее словам, ей давно наскучило и чтение, и шитье. Мне было невыразимо грустно расставаться с бабуней, но что поделать? Отец больше не мог должным образом заботиться о ней. Я предложила урезать свои рабочие часы в книжном магазине, но эти двое и слышать об этом не хотели.
Я увидела отца, когда он шел по вымощенной камнем дорожке. Махнула ему, однако он не заметил. Тогда я побежала к массивной входной двери и сама распахнула ее.
Отец сказал, что принес десятка два книг, которые сложил в старый, потрепанный чемодан.
– Роберта, это ее чемодан, – сказал отец. – Если хочешь, оставь его себе.
Обязательно оставлю. Я люблю старые чемоданы и уже придумала, чем его можно загрузить.
– Как ты сегодня себя чувствуешь? – спросила я, вглядываясь в отцовское лицо.
Я успела привыкнуть к его постоянной бледности. К жуткой бледности с землистым оттенком. Но рассказывать о самочувствии – не в правилах отца. Он лишь пожал плечами. Достаточно красноречивый жест, означающий: «Ну… да ты и сама знаешь». Перед этим у него несколько недель был период ремиссии, но теперь болезнь снова двинулась в наступление. Перемена была внезапной и потому пугающей для нас обоих.
Из кабинета вышел Филип, и они с отцом поздоровались за руку. До этого они уже встречались раза два, и каждый счел другого «джентльменом». Отец собирался просто отдать книги в магазин. Филип упрямился и говорил, что бесплатно их не возьмет. Сошлись на компромиссной сумме в двадцать фунтов. Мы угостили отца чаем, накрыв стол в задней части сада. В этот день весеннее солнце светило тускловато и не особо грело. Потом отец ушел. Когда-то его походка была размашистой и пружинистой. Теперь он по-старчески шаркал ногами. Я старалась этого не замечать.
После ухода отца я опустошила чемодан. На внутренней стороне крышки нашлась потрепанная бумажная этикетка с надписью «Миссис Д. Синклер». Неспешно раскладывая и очищая от пыли книги, я раздумывала, кто же это такая. По словам отца, чемодан принадлежал бабуне. Скорее всего, он перекочевал к ней от этой миссис Синклер. Моя бабушка всегда отличалась бережливостью, довольствовалась тем, что у нее есть, и не торопилась выбрасывать вещи, которые еще можно починить. Как говорил отец, бережливости ее научили военные и послевоенные годы. «Так все тогда жили», – добавил он. Это была не модная тенденция тех времен, а суровая необходимость.
Я протерла переплет книги «Развитие ребенка. От долины разрушений к непреходящей славе» (ни разу не видела ее в бабушкином доме) и взялась за страницы. И вдруг оттуда выпали два аккуратно сложенных листка бумаги. Письмо! Конверта не было, о чем я искренне пожалела. Письмо, адресованное моей бабушке Доротее, было написано выцветшими синими чернилами, мелким аккуратным почерком. Голубая бумага тоже выцвела, став сухой и ломкой, как крылышки засушенного насекомого. Края листков пожелтели, а на местах сгиба образовались дырочки. Да, но имею ли я право читать это письмо? Любопытство перевесило этические соображения. Мне было не удержаться.
Я несколько раз прочла письмо, однако его смысл не стал понятнее. Меня сразу потянуло сесть. Я опустилась на скрипучий табурет. У меня дрожала рука. Я читала медленно, пытаясь вникать в каждое слово.
Доротея Петриковски – моя бабушка. Ян Петриковски был моим дедом. Я его никогда не видела. Мой отец – тоже. Все это – неопровержимые факты.
Но это письмо… лишено смысла.
Во-первых, мои дедушка и бабушка были женаты. Вот только их счастливая совместная жизнь продлилась недолго. А здесь… дед заявляет, что не может жениться на бабушке. Во-вторых, письмо датировано февралем сорок первого года. Но мой дед, командир польской эскадрильи Ян Петриковски, погиб в ноябре сорокового, защищая Лондон от массированных налетов немецкой авиации.
2
Сам воздух в прачечной Дороти Синклер был вязким от пара. Она обливалась по́том, едва успевая обтирать лоб тыльной стороной ладони. Ее платок давно развязался и сполз, однако Дороти не желала даже на минуту оторваться от стирки и заново его повязать. Волосы липли к ее лицу, будто щупальца неведомого чудовища, следившего за ней. Сегодня для нее было особенно важно плотно загрузить себя работой.
Медный бак в дальнем темном углу прачечной шипел и булькал, как адский котел. В баке кипятилась одежда Эгги и Нины. Их форма пачкалась почти ежедневно. Бедняжки не виноваты: они вовсе не неряхи, это постоянное недоедание сделало их неловкими. Но Дороти была вполне способна еженедельно снабжать своих девочек стопкой выстиранного, накрахмаленного и выглаженного белья. При всех тяготах этого занятия она по-своему любила стирать. Платья, чулки, нижние юбки, кардиганы, девчоночьи брюки, рубашки и панталоны. Все остальное белье в своем доме и домах односельчан. Это было нечто большее, нежели традиционная женская работа. Стирка стала ее образом жизни. Все этапы: замачивание, погружение в бак, помешивание, возня со стиральной доской – имели свой ритм и придавали смысл ее жизни. Даже отжимание белья, чем она сейчас занималась. Вращая рукоятку отжималки, она, что называется, выкручивала душу из одежды, простыней и скатертей. Но высшим наслаждением Дороти и ее любимым временем дня был тот час, когда она развешивала белье на веревках, закрепляя его прищепками. Простыни, наволочки, сорочки развевались на ветру, как паруса, и хлопали, будто крылья ангела-победителя.
Сегодня она должна с головой погрузиться в работу. Сегодня… погрузиться… в работу.
Ей нельзя думать. Ни о чем. С того дня она мастерски научилась отгонять мысли. Нередко она думала образами. Язык – он коварный. В нем много подтекста и двусмысленностей. Дороти больше не доверяла словам. И все же совсем повернуться к ним спиной она не могла. Ей нравилось писать, и она попробовала себя в письме. Писала, когда оставалась одна. Украдкой, вынув записную книжку. Рисовать она не умела; оставалось писать. Дороти надеялась превратить свои бессвязные слова в стихи, но строки получались такими же бессвязными, бессмысленными. Ей было тяжело писать о чем-то красивом.