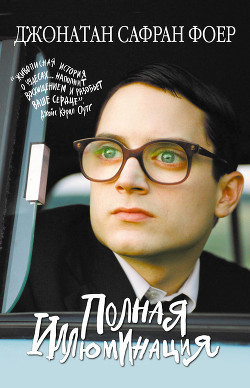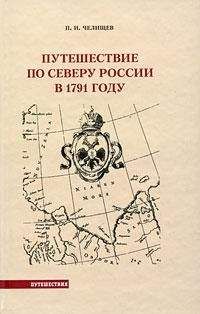Повторяющиеся тайны, 1791—1943
TO, ЧТО ЯНКЕЛЬ ОБЕРНУЛ часы куском черной материи, осталось в тайне. То, что у Многоуважаемого Раввина однажды утром с языка слетели слова: А ЧТО ЕСЛИ?, осталось в тайне. И что самая несгибаемая из Падших, Рейчл Ф, проснулась с вопросом: А что если? — тоже. Впрочем, то, что Брод не пришло в голову сказать Янкелю о пятнышках крови у себя в трусиках, и что она подумала, что умирает, и какой возвышенной показалась ей эта смерть, в тайне не осталось. Однако то, что она решила ему об этом сказать, но не сказала, осталось в тайне. Свои занятия мастурбацией Софьевке время от времени удавалось сохранять в тайне, что делало его самым надежным хранителем тайн в Трахимброде, а может быть, и на всем белом свете. То, что скорбящая Шанда иногда не скорбела, осталось в тайне. То, что из рассказов раввиновых двойняшек вытекало, будто они ничего не видели и ничего не знали в тот день, 18 марта 1791 года, когда повозка Трахима Б одной из своих оглобель пригвоздила или не пригвоздила Трахима ко дну реки Брод, осталось в тайне.
Янкель расхаживает по дому с черными простынями. Он набрасывает черную тряпку на напольные часы, а свои серебряные карманные заворачивает в черный огрызок. Он перестает соблюдать Шаббат, не желая отмечать окончание недели, и избегает солнца, потому что тени — это те же часы. Порой я борюсь с искушением ударить Брод, — думает он сам себе, — не потому, что она не права, а потому, что люблю ее до безумия. Это тоже тайна. Он занавешивает окно своей спальни черным отрезом. Он заворачивает в черную бумагу календарь, точно для подарка. Пока Брод принимает ванну, он читает ее дневник — это еще одна тайна, и он знает, что читать чужие дневники — вещь ужасная, но есть ужасные вещи, на которые отец, пусть даже поддельный, имеет право.
18 марта 1803
…Не представляю, как со всем управлюсь. До завтра надо во что бы то ни стало дочитать первый том биографии Коперника, чтобы вернуть его человеку, у которого Янкель его купил. Затем надо разобраться с греками и римлянами, и еще попытаться проникнуть в тайную суть библейских писаний, и еще — будто в сутках немерено часов — математика. Сама виновата…
20 июня 1803
…«В глубине души юноши более одиноки, чем старики». Не помню, где прочитала, но вот засело в голове. Может, правда. А может, неправда. Скорее всего, юноши и старики одиноки показному, каждый по-своему…
23 сентября 1803
…Днем мне вдруг пришло в голову, что в мире ничто не доставляет мне такого удовольствия, как заполнение дневника. Он всегда меня до конца понимает, а я всегда до конца понимаю его. Мы с ним вроде как идеальная пара, как один человек. Иногда я беру его с собой в постель и засыпаю с ним в обнимку. Иногда целую его страницы, одну за другой. Пока на большее рассчитывать не приходится.
Это, конечно, тоже тайна, потому что свою собственную жизнь Брод держит от себя в тайне. Как Янкель, она повторяет слова вымысла до тех пор, пока они не начинают казаться правдой или пока она сама не в состоянии различить, правда это или нет. В деле переплетения того, что есть, с тем, что было, с тем, что должно быть, с тем, что могло бы быть, ей нет равных. Она избегает зеркал, а чтобы посмотреть на себя, пользуется мощным телескопом. Она нацеливает его в небо и видит (или так ей, по крайней мере, кажется) за синим, и черным, и даже за звездами, другое черное и другое синее, а затем — дугу, соединяющую ее глаз с крышей приземистого домишки. Она изучает фасад, отмечая, что бревна дверного проема во многих местах потрескались и обветшали и что от водосточной трубы осталась лишь белая колея, потом начинает заглядывать в окна, в каждое по очереди. В левом нижнем окне ей видна женщина, отмывающая тряпкой тарелку. Такое впечатление, что женщина напевает себе под нос, и Брод воображает, будто это та самая песенка, которую мама непременно пела бы ей перед сном, если бы не скончалась без страданий во время родов, как уверяет Янкель. Женщина смотрит на свое отражение в тарелке, затем кладет ее поверх стопки других. Она смахивает волосы со лба, чтобы Брод могла рассмотреть ее лицо, или это Брод только кажется. На лице у женщины явный избыток кожи, не по возрасту много морщин, будто это не лицо, а некое неведомое животное, неторопливо сползающее с черепа день за днем, пока однажды не повисает, уцепившись за челюсть, и, поболтавшись, не сваливается в подставленные ладони, чтобы женщина могла посмотреть на него и сказать: Вот лицо, которое я носила всю жизнь. В правом нижнем окне нет ничего, кроме письменного стола, заваленного книгами, бумагами и картинками — картинками какого-то мужчины и какой-то женщины, картинками детей и внуков. Какие изумительные портреты, — думает она, — такие крошечные и такие совершенные! Она наводит фокус на одну конкретную фотографию. На ней девочка держит за руку маму. Они на пляже или это кажется с такого гигантского расстояния. Девочка, безупречная кроха, смотрит чуть в сторону, будто кто-то корчит ей рожицы, провоцируя на улыбку, а мама — если это действительно девочкина мама, — смотрит на девочку. Брод вглядывается пристальнее, на этот раз в глаза матери. Зеленые и глубокие, заключает она, неотличимые от реки, носящей одно с ней имя. Она плачет? — гадает Брод, опуская подбородок на подоконник. — Или это художник попытался изобразить ее еще краше, чем она есть на самом деле? Потому что Брод действительно считает ее красавицей. Именно такой она всегда воображала свою мать.
Выше… Выше…
Она заглядывает в окно спальни на втором этаже и видит пустую постель. Подушка — идеальный четырехугольник. Гладь покрывала — как озерная вода. Не исключено, что в этой постели никто никогда не спал, — думает Брод. — А может быть, на ней вытворяли чтонибудь несусветное и, торопясь избавиться от одних улик, ненароком оставили другие. Ведь даже если бы Леди Макбет удалось оттереть проклятое пятно, ее руки все равно были бы красными от ее усилий. На столике возле постели чашка с водой, и Брод кажется, что она видит в ней рябь.
Влево… Влево…
Она заглядывает в окно следующей комнаты. Кабинет? Детская? Точно сказать невозможно. Она отворачивается и поворачивается снова, как будто мига достаточно, чтобы открылась новая перспектива, но комната остается загадкой. Она пытается собрать ее по фрагментам, как мозаику. Недокуренная сигарета, балансирующая на выпяченной губе пепельницы. Влажная тряпка на подоконнике. Клочок бумаги на столе с надписью от руки (почерк совсем как у нее): Это мы с Августиной. 21 февраля, 1943.
Выше и выше…
Но на чердаке нет окна. Она вынуждена заглянуть прямо сквозь стену, что не так уж и трудно, потому что стены тонкие, а телескоп у нее очень мощный. На полу под самым скатом крыши животами вверх лежат мальчик и девочка. Она наводит резкость на мальчика, который с этого расстояния выглядит ее ровесником. И даже из своего далека она различает в его руках Книгу Предшествующих, которую он читает вслух.
А, — думает она, — так это Трахимброд!
Его рот, ее уши. Его глаза, его рот, ее уши. Рука писца, глаза мальчика, его рот, девочкины уши. Она устремляется назад по цепочке причин и следствий, чтобы заглянуть в глаза вдохновению, посетившему писца, чтобы разглядеть губы влюбленного, и ладони родителей вдохновения, посетившего писца, и их влюбленные губы, и родительские ладони, и соседские коленки, и недругов, и возлюбленных их возлюбленных, и родителей их родителей, и соседей их соседей, и недругов их врагов, пока ей не удается убедить себя в том, что это не просто мальчик читает девочке вслух там, на чердаке, а все, кто когда-либо жил на земле, читают ей. И она скользит по строчкам вслед за ними:
Первое изнасилование Брод Д
Первое изнасилование Брод Д случилось в разгар всеобщего ликования, последовавшего за тринадцатым празднованием ежегодного торжества, Дня Трахима, 18 марта 1804 года. По дороге домой от убранной голубыми цветами платформы, на которой она простояла много часов подряд безыскусной красавицей, помахивая русалочьим хвостом, только когда им помахивать полагалось, бросая тяжелые мешки в реку, носящую одно с ней имя, только когда Раввин кивком головы подавал ей сигнал, — к Брод подошел сумасшедший сквайр Софьевка Н, под чьим именем наш штетл теперь обозначается на картах и в мормонских