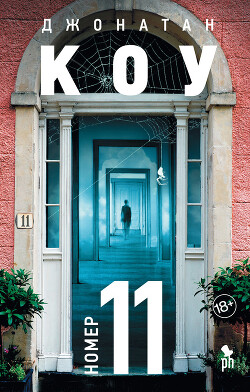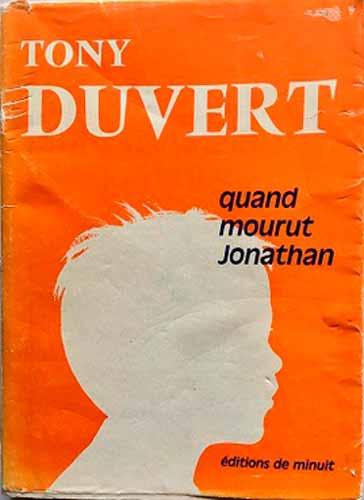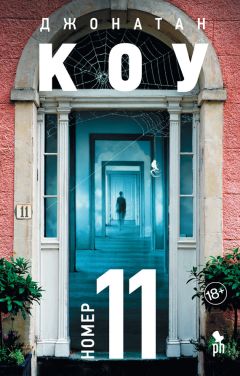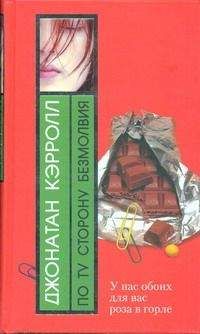Элисон опять тратила время, блокируя самых остервенелых. И опять чувствовала себя бессильной, словно король Кнуд, не сумевший обуздать прилив [6]. Количество посещений в Твиттере ее матери выросло до 6111. Неплохо, если не принимать во внимание 314 566 фолловеров Пита и число, неумолимо приближающееся к миллиону, у Даниэль.
Расклад, отдавала себе отчет Элисон, явно не в пользу ее матери.
* * *
Вэл сидела в тени эвкалипта, одна. Руками она крепко стискивала согнутые ноги, подбородок упирался в колени. И так, свернувшись мячиком, Вэл раскачивалась назад-вперед, закрыв глаза и всхлипывая изредка, как всхлипывают, когда плакать уже нет сил. Она надеялась, что ее никто не видит, хотя вполне вероятно, что хотя бы одна камера сейчас направлена на нее. Камеры были повсюду: спрятанные в дуплах деревьев или в тайных расщелинах среди камней, укрепленные на шестах среди густой зелени. Уединиться не было никакой возможности, в принципе. Верно, она сама отказалась от приватности, когда подписала контракт. Но Вэл и вообразить не могла, насколько это будет трудно…
Назад-вперед, раскачивалась она, вперед-назад. Попробовала вспомнить технику медитации, которой учил ее инструктор по йоге, но это было так давно. Да медитация и не помогла бы. Образы, что она пыталась выбросить из головы, наседали крепко, давили всей своей тяжестью, не позволяя ни подумать, ни вспомнить ни о чем другом. Первыми возникали картинки простые, неброские: позднее утро, начало дня, все как обычно. Дневной свет, что приятно. Яркое солнце. Затем поляна, куда привел ее проводник. Стол, за который ей велели сесть. Пластиковая банка на столе, а внутри… о господи. Насекомое… страшное, как оно называется? Палочник-голиаф, может уколоть, сообщили, давясь смехом, ведущие. Боже милостивый, эта дрянь была по меньшей мере в шесть дюймов длиной. Пронзительно-яркого зеленого цвета. Шесть тонких, распластанных в стороны лапок, длинное тело в защитном панцире, твердом, прочном, и наконец… голова, непостижимым образом (если не считать двух длинных рожек) похожая на человеческую, только очень маленькую, глазки-бусинки в упор смотрели на Вэл, такие живые, цепкие. (Выражение ужаса в этих глазах, что вряд ли было плодом воображения Вэл, лишь доказывало — Господи, прошу, пусть так оно и будет, — антропоморфность зеленой твари.) Ее попросили надеть пластиковые очки как у сварщика (она до сих пор на понимала зачем) и крепко зажмуриться, а потом «смотритель за насекомыми» (да, в штате передачи имелась и такая должность) извлек из банки это несчастное отвратительное создание, Вэл широко открыла рот, и вот оно уже у нее внутри, у нее во рту, она чувствовала его, чувствовала, как оно лихорадочно вертится, пытаясь вырваться на волю, как его непристойно длинные лапки мечутся по ее языку, нёбу, по всей полости рта, превратившейся в тюрьму, в запертую клетку для этой твари… Почти сразу к горлу подступила тошнота, и Вэл отчаянно тянуло рыгнуть, вывалить насекомое на стол, но она помнила: за каждые десять секунд, что она удерживает его во рту, ее сотоварищам в лагере полагается порция еды, и она не хотела их подводить. Насекомое извивалось, билось о преграды еще безумнее, пыталось сбежать через «черный ход», забравшись в горло, но Вэл лишь зажмурилась еще крепче — из уголков глаз потекли горькие слезы — и сомкнула губы еще решительнее. Но даже тогда насекомое частично — одной из лапок, наверное, — торчало у нее изо рта, иначе кто-то из ведущих передачи не сказал бы: «Давай же, Вэл, будь молодчиной, заглоти его целиком», а другой не хохотнул бы: «О-ох, спорим, ты давно не слышала таких слов от парня, а, Вэл?» — и вся съемочная бригада заржала, но только теперь, вспоминая, она осознала оскорбительную похабность тех слов, тогда же она собирала все свое мужество в кулак, молясь, только бы не вытошнило, только бы не открыть глаза или рот, из последних сил игнорируя длинные узловатые лапки, царапающие язык и щеки, — и вдруг все замерло. «Боже, — подумала Вэл, — я его убила?». Но мысль продержалась не долее секунды, потому что затем во рту образовалось кое-что еще, нечто жидкое, а на вкус… Бог мой!.. Ничего более омерзительного, более гадостного она в жизни не пробовала и понятия не имела, что такое вообще существует, и Вэл сообразила, что палочник гадит у нее во рту, буквально обсерается от страха, и струйка жидких экскрементов уже потекла вниз по ее горлу, желудок вздыбился, и рвота громкими, перебивающими дыхание рывками выплеснулась на стол вместе с насекомым, слюной и желчью, после чего она, должно быть… если не потеряла сознание в полном смысле слова, то, во всяком случае, утратила вскоре представление о том, где она и что с ней, потому что не помнила ни восторженных воплей, ни аплодисментов ведущих, а то и всей съемочной бригады, не помнила ничего, а когда пришла в себя, то уже сидела в кресле, закутанная в одеяло, и мелкими глотками прихлебывала воду, полоскала ею рот и сплевывала в неодолимом стремлении избавиться от того привкуса, жуткого привкуса, она и сейчас временами его ощущала, и каждый раз это сопровождалось рвотными позывами…
Вэл встала на четвереньки, подползла к зарослям папоротника, и ее вывернуло, но при этом она старалась производить как можно меньше шума. Из-за проваленного испытания ужином ее оделили скудным — горстью риса с фасолью, — а теперь она лишилась и этой малости. Еще немного — и она окончательно придет в форму и сможет вернуться к остальным. Чем раньше это произойдет, тем лучше, ведь ей необходимо переговорить с Даниэль. После ужина она обошлась с девушкой слишком бесцеремонно, язвительно обронив, что Даниэль никогда не моет посуду. Претензия была обоснованной: лентяйка Даниэль уклонялась от любых бытовых обязанностей, — но слова Вэл прозвучали резковато, а ей не хотелось расстраивать юную модель и тем самым настраивать против себя зрителей в Англии. Как только Вэл почувствовала себя лучше, она отправилась извиняться.
В лагере Даниэль не оказалось. Она лежала с Питом на траве примерно ярдах в пятидесяти от гамаков. Оба, растянувшись на спине, глазели в небо сквозь густые ветви деревьев. Лицо Даниэль было лишено всякого выражения, но такой ее обычно и видели в лагере. Питу явно надоело валяться на траве, он нетерпеливо ерзал.
— Ой, простите, не хотела вам мешать, — сказала Вэл.
— Все нормально, — Пит сел. — Хотели перекинуться парой слов?
— Да… с Даниэль, если можно.
— Не вопрос. Мне все равно надо в сортир. — Пит проворно встал и удалился.
Вэл присела на корточки рядом с Даниэль:
— Привет, милая. Надеюсь, я не испортила романтическое свидание?
— Не волнуйся, — Даниэль слегка шевельнула своей идеальной головкой, — с ним я бы ни за что не пошла на свидание, полный мудак. Мы так себя ведем, потому что режиссер постоянно требует, чтобы мы выглядели влюбленными друг в друга.
Вэл кивнула, толком не зная, что ответить. Она удивилась, обнаружив, что кто-то получает указания от «режиссера». До сих пор она понятия не имела о существовании подобного персонажа.
— О чем ты хотела поговорить? — спросила Даниэль.
— О мытье посуды.
Даниэль отвернулась от собеседницы и уставилась пустыми глазами в небо:
— Да? И что?
— Я просто пришла сказать… Прости, что я к тебе придиралась. Ты ведь не сердишься, правда?
— Ты не очень-то уважительна со мной в присутствии других, — обиженно сказала Даниэль. — Понимаю, я моложе тебя, но, видишь ли, по-моему, я заслуживаю, чтобы со мной обращались…
— Но я проявила уважение, — перебила Вэл. — То есть я могла бы сказать: «Эй, ты, паршивка ленивая, давай-ка оторви свою задницу и помоги наконец с посудой!» Ведь могла бы? Но я никогда не стану так с тобой разговаривать.
— Наверное… — смягчилась Даниэль.
— Знаешь, каждый из нас должен вносить свою лепту, прилагать усилия, иначе мы здесь и недели не протянем. «Мы все в одной лодке», как выразился бы наш обожаемый мистер Осборн.