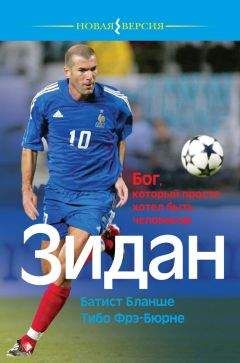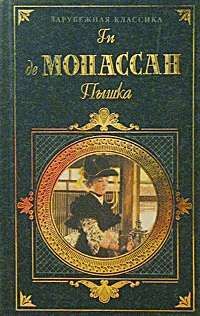Мой костер горит теперь всю ночь. Когда же зверь отступится? Не знаю. Он не ушел, по утрам я вижу его следы. Я дремлю вполглаза и подкармливаю огонь полосками брезента, смоченными в масле — так дольше горит.
Природа идеально сотворила волка. Он не спеша наблюдает, как я суечусь и трачу силы. Он понимает мудростью своего племени, что рано или поздно любой огонь гаснет. А я продолжаю битву человека, — сколько раз вот так же боролись за выживание мои собратья. Инстинкт против инстинкта, человек против зверя.
Я так его и не видел. Он бродит кругами на стыке с чернотой, — не точно там, где кончается свет костра, а чуть дальше, прячет глаза. Он тоже черный, время от времени я нахожу в снегу клок его шерсти. У меня была даже глупая мысль приручить его, однажды ночью я оставил ему приманку—ломтик колбасы. Он его не тронул. Он просто ждет — и дождется.
От покорности я перешел к буйству. Сегодня вечером я схватил нож и с воплем ринулся в ночь, рубя ее наотмашь и вслепую, крича волку: выйди, если ты мужик. Конечно, он не вышел.
Последний колпачок масла. Я смотрю в канистру, полную пустоты. Без топлива брезент палатки гореть не будет. После недели борьбы я слагаю оружие. Я ворошу последние угли и ретируюсь в палатку вместе с полным запасом ужаса. Где же ты, Корка, ведь ты нужен мне как никогда! Враг придет сегодня вечером. Слишком много щелей, я не могу сторожить все подступы в одиночку. Свернуться калачиком, превратиться в гладкий-гладкий шар, чтобы не за что было ухватить.

На рассвете — пробуждение, резкое, толчком, и ошеломление — оттого, что я спал, оттого, что я жив. Волк пощадил меня. Пощадил. Я выхожу из палатки под ослепительное солнце — обещание весны, от которого режет глаза. Глаза борются, фильтруют палящий свет. Зверский голод скручивает мне живот. Я так голоден, что мог бы проглотить долину, со всеми ее деревьями, людьми, скотом, с камнями, которые хрустят на зубах, и листьями, которые прилипают к нёбу, вот все бы съел и не подавился, а запил бы рекой. Несколько шагов по снегу, который стонет и скрипит, и складывается гармошкой.
Я жив. И тут я увидел. Прямо у себя под носом — разгром. Не съесть мне ни долину, ни людей, ни зверей. Все, людоед, нахвастался. Есть больше вообще не придется.
Ящик, в котором хранилась моя провизия, выпотрошен и пуст. Ничего не осталось. Проведя семь месяцев в котловине, я, обломок зимнего кораблекрушения, я, несчастный мешок с костями, волосами и веревочками мышц, ни на миг не подумал укрыть в надежном месте еду — итальянскую копченую колбасу и сухофрукты. Я думал, что зверю нужен я.
Прав был Джио. В горах умирают от самомнения.
Голод подступил почти сразу. Смешно: я каждый день просто заставлял себя есть, я проклинал каждый кусок солонины, от которой губы горели, каждую сухофруктину, от который они потом слипались. И вдруг я только о них и мечтаю. Еще бы куснуть, хоть разочек попробовать.
В первый день я искал остатки еды, потом слепил изо льда и найденных крошек эскимо и сгрыз его. Волк хорошо поработал. Ничего не затоптал, ничего не оставил, разве что по недосмотру. Я прямо видел, как он лежит у себя в логове, осоловев от жратвы, невнятно славя своих безымянных богов.
На следующий день я ел снег. Закрыв глаза, добавлял ему вкус всевозможной экзотики: сорбета из манго, флердоранжа, еще каких-то фруктов, может быть маракуйи? Пожевал щепочку, — что за вкусная лакрица! Обман действовал несколько минут, потом желудок взбунтовался. Из меня извергся поток ледяной воды.
Сегодня — лишайник. Я расчищаю каменные выступы, вцепляюсь в них зубами и пытаюсь что-то отгрызть, чтобы выжить. Но пока отдерешь хоть каплю лишайника, обломаешь все зубы, и я в конце концов сдаюсь. Голод стал болью, воткнутым в живот ножом. Но все это теперь не имеет значения. Сейчас у нас середина февраля 1955 года, и я, Станислас Анри Арменголь, родившийся в 1902 году в селении Тарб, сын Анри Мануэля Арменголя, прозванного Командором, и Марии Долорес Хименес, прозванной мамой, — я только что понял, что не умру от голода.
Снег идет уже час. А ведь я так верил в весну, так звал ее. Мольбы мои отскакивали от металлического неба. И сходили вниз белым пухом и шквалами, пронзительными, как пиццикато. Я знаю, о чем они трубят, что возвещают, — вот и он, их повелитель, великий мистраль с могучим воем меди. В первую метель он стал трепать мою провисшую палатку, но не сумел ухватиться и в ярости унесся, обдумывая месть. На этот раз не помогла и легендарная предусмотрительность Джио. Ветер подцепил брезент изнутри, через дверь, которую я опрометчиво оставил открытой. Палатка вздулась, как пузырь, выдохнутый землей. Я был неподалеку. Я подбежал и успел схватить волочившуюся по снегу веревку. Она цапнула меня за пальцы, прямо сквозь варежки, мистраль тащил в одну сторону, я — в другую. Он яростно пропахал мной целину — брось конец, идиот! Я цеплялся изо всех сил, не обращая внимания на боль, удерживая взбесившийся полог, от которого зависела моя жизнь. А потом устал и сдался, и покорился ветру. Разжал опухшие и окровавленные пальцы.
Долго лежал лицом в снег. Везде жжет, саднит кожу, легкие, горит внутри и снаружи. Двинуться. Встать на колени. Ползти в лагерь. От моего убежища остался лишь круг жухлой травы. Я так давно ее не видел, а ведь когда-то знал совсем юной, свежей, полной зеленых грез, — и вот она уже седеет от инея.
Я умру не от голода, нет. Первым меня прикончит холод, и так даже лучше.
Ночь заканчивает свой дозор. Ветер удвоил силу, он утюжит снега в одну большую плоскую пашню. Я жду, привалившись спиной к скале. Мне не страшно. Стадия озноба длилась два часа. Сердцебиение замедляется, чух-чух — и белое облачко слетает с губ, как игрушечный паровоз. Я осужден на смерть, но мне не положено последнего желания. А я бы не отказался от дольки шоколада. И еще я с удовольствием бы обжегся в последний раз — прикоснувшись к женщине.
Мне не страшно.
Разгибаю пальцы перед глазами. Грязь, мозоли, морщины и раны. Где тут линия моей жизни? Мне говорили: один искатель приключений, сочтя свою линию жизни слишком короткой, взял и удлинил ее — взмахом ножа. И что он выиграл? С ножом или без него, а край ладони случается довольно скоро. Продлить линию жизни, — придумал тоже. Наши ладони слишком малы, чтоб удержать хоть что-то важное.
Хочется спать.
Надо. Открыть. Глаза. Открой глаза, Нино, пора в школу. Я отталкиваю Корку, который вылизывает мне лицо, дышит сладкой щенячьей пастью. Я не дома, сам знаю. Я у себя на горе. Впервые я слышу ее, слышу по-настоящему. Гора — это симфония: bewegt, nicht zu schnell — активно, но не слишком быстро. Я всегда любил Брукнера.
Открой глаза. Я должен вспомнить что-то важное. Я слышу снег, потрескивание кристаллов. Далеко внизу земля уже шевелится, расправляется проклюнувшееся семя, буравит усиком почву. Я слышу, как сочатся черные реки, я опускаюсь еще глубже, до влажного бульканья лавы. Голоса, музыка, радиоволны Вселенной. Сок поднимается в стволе дерева, лопается яйцо жука во мшистой колыбели. Весна исполнила мое желание, она не так уж далеко, надо только вслушаться. Вот я и слушаю, Эме.
Надо проснуться. Что-то такое про волка. Я в озере, я медленно погружаюсь, далеко вверху сверкает треснувший лед, вокруг ранца плавают книжки, а вот и илистое дно, страх уходит, мне хорошо, высокие травы вздымаются, как мамины волосы, когда она склоняется поцеловать меня на ночь, но нет, мой час еще не пробил, чьи-то руки зовут меня, я отталкиваюсь пяткой, всплываю и глотаю огромный шар воздуха.