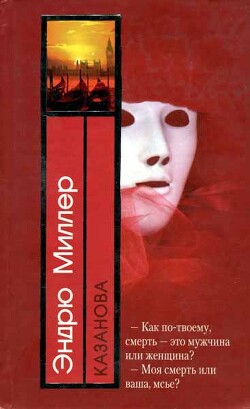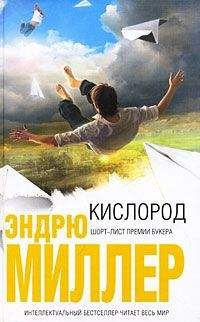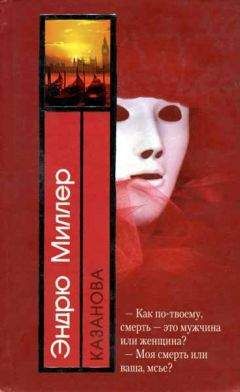Священник стоял на шатком амвоне. При появлении нарядно одетых господ он прервал проповедь и отвесил им низкий поклон. Казанова кивнул и вместе с Жарбой и женщинами уселся на скамью, с виду чуть получше прочих. Он открыл затрепанный молитвенник, торопливо перелистал его, поправил манжеты и перебрал мелочь в карманах. Священник обратился к иностранцам с масляной улыбкой. Кто-то попытался запеть. Собаки начали драться. Двое детей с криками и смехом вбежали в церковь и выбежали наружу. Пьяный прихожанин с мучительной медлительностью кренился набок и наконец рухнул со скамьи. Пришедшие бормотали молитвы, вставали и садились, как того требовал ритуал. Одни были погружены в свои раздумья, а другие молились с головой пустой, будто мыльный пузырь. Красота и смысл церковной службы давно исчезли, уступив место скучному спектаклю и часу расслабленного созерцания, от которого лишь болела голова.
Но разве это не образец его собственной жизни, подумал шевалье, разве она не превратилась в столь же пустые ритуалы? Он боялся, что навсегда утратил способность радоваться. А ведь некогда наслаждался великолепием бытия, лежа на земле под бело-золотистой луной. Смог бы он сейчас протанцевать с самим собой на деревянном полу, без музыки или, вернее, под аккомпанемент лишь той музыки, что поет в его крови? Так он танцевал в залитой светом парижской мансарде на Пляс-Рояль. Этот эпизод запомнился Казанове и до сих пор был ему дорог. Тогда он считал, что ему выпал счастливейший жребий — просыпаться, ложиться спать и, спускаясь по ступенькам, ощущать собственный вес. На минуту он помолился — как бы он стал сводничать кардиналам, не зная ни одной молитвы? — и безмолвно воззвал к Всевышнему, чтобы Тот освободил его от злобной силы, сдавившей человеческое сердце, иссушившей волю и способность удивляться чудесам. Слева от него сидел спокойный, невозмутимый Жарба, и шевалье захотелось его ударить.
Старые могильные камни на церковном дворе почти скрылись под землей, а из-за разросшихся вязов там всегда царил полумрак. Последовала процедура знакомства с прихожанами: вот сэр Некто со своей супругой, вот врач, вот фермер, вот бывший нотариус, вот две перекошенные старушки-близняшки, а вот и сам священник, имя которого Казанова вскоре успел забыть. Все откликнулись на приглашение и обещали побывать у них в усадьбе. Нотариус или, может быть, врач так энергично пожал шевалье руку, будто с выгодой продал ему больного быка. Мужчины не отрывали взглядов от Шарпийон, хотя глаза у нее опухли, а лицо, обычно нежно-розовое и свежее, побледнело. Она не старалась произвести впечатление и не утруждала себя излишней любезностью. А по пути домой так сильно чихала, что едва не лишилась чувств.
В понедельник они, словно по обоюдному согласию, целый день пролежали в постели. Это оказалось на редкость просто. Казанова проснулся и опять задремал. Иногда он открывал то правый, то левый глаз. Ему снился дождь, а когда он все же поднялся, то увидел мокрые подоконники. Окрестности захлестнул потоком мощный ливень.
Во вторник его разбудили рано, до рассвета. Он почувствовал, что у его изголовья стоит женщина.
Неужели Шарпийон все-таки явилась к нему?
Он приподнялся в полутьме, протянул руку, дотронулся до нее, но тут же отпрянул.
Это была мадам Аугспургер. Ее дочь нездорова, она мечется в лихорадке, трясется, и ее тошнит. У нее ноют все кости и суставы. И мсье должен за это ответить! Зачем он привез их в такую жуткую дыру? Разве он не знал, что Мари очень слаба и ей не подходит сырой климат? Что у нее такое хрупкое сложение?
Шевалье вспомнил, что сперва ему приснился не дождь, а ночь в Ридотто в Венеции и он играл там в biribisso [28] с Анжем Гударом, постоянно проигрывая. Он с трудом выбрался из кровати, надел халат и двинулся по коридору с мадам Аугспургер в дальнюю часть дома. У постели больной слабо горела лампа. Шарпийон лежала на спине в позе умирающей или недавно скончавшейся. Ее тетки сидели по обе стороны кровати, их носы покраснели от холода и горя. Они Держали девушку за руки. Бабушка устроилась в кресле-качалке в углу спальни и смотрела в потолок, словно кто-то оставил вверху послание и она старалась его прочесть. Казанова наклонился над Шарпийон.
Болезнь поглощала красавицу, не оставляя ни одного живого места. Ее волосы сделались бурыми, как пожухлая трава. Глазки-щелочки, видные сквозь полуопущенные веки, посинели, как испорченный сыр. Он прикоснулся к ней и в испуге отдернул руку. Чем она больна? Внезапно шевалье понял, что не желал бы умереть от лихорадки в этом захолустье, зная, что врачи смогут приостановить ход болезни всего на какой-то час. Или погибнуть от другого непонятного недуга, подтачивающего организм, будто червь. Тетки глядели на него. Глядели злобно и с подозрением. Шарпийон стонала, вернее, что-то стонало в глубинах ее существа. Он нежно, воркующим голосом произнес ее имя. Так окликают друг друга любовники в темную, беззвездную ночь.
Что там говорил Гудар о сомнениях? Что их нужно бояться больше, чем стилета? Чем он сам занимался до Мюнхена, до Лондона, на чем специализировался? Речь, конечно, шла о его настоящих, серьезных делах, а не о соблазнении женщин, в сущности, банальном трюке, совсем как у фокусника, вытаскивающего из рукава цветные носовые платки. Нет. Его успехи зависели от способности убеждать других, что он один может справиться с их проблемами. Король страдает от импотенции? У Казановы готов ответ. Министр нуждается в дополнительных доходах для казны? Казанова знает, где их нужно искать. Аббат влюбился в жену своего брата? Казанове известно, как следует поступить. Позднее с помощью не одной дюжины чашек кофе, хитрости, удачи он и правда находил такие способы, ну а если это ему не удавалось, прибегал к внушению. Людей очень легко уговорить, когда они сами этого хотят и когда они в полном отчаянии. Если все сложится благополучно, потом вы можете безбедно жить месяц или даже год. А если вас ждет неудача, то оберните мешковиной копыта лошади и бесшумно скройтесь поутру от ваших врагов. Это были не просто двоедушие или игра. Нет, что-то куда более полезное и интересное. Сказать что-либо с полной уверенностью значило сделать добрую часть дела. Он вылечил маленькую Эмили. Почему бы ему не исцелить Шарпийон?
Казанова пригнулся, осторожно отодвинул теток, взял девушку на руки, поднял и понес к двери.
— Я ее вылечу, — проговорил он. — Можете не опасаться. Мне понадобится три дня. Ровно три.
Но лечение заняло пять дней.
глава 5
Он не посылал ни за врачом, ни за аптекарем, зная, какой вред способны причинить эти люди. Шевалье согрел ее постель кастрюлей с горячими углями и укутал Шарпийон толстым одеялом. Жарба принес все необходимое: питательные напитки и кувшины с горячей водой. Казанова достал из своей медицинской сумки десяток флаконов и выставил их на каминную полку. Многие из них выглядели более чем сомнительно: старые, дилетантские снадобья или самодельные яды вроде аугспургеровского «Бальзама жизни». Ему захотелось было попросить их изготовить новую порцию бальзама и проверить его на практике, но они бы заявили, что им требуется толченый рог нарвала, высушенная голова или ногти какого-нибудь святого. Он взял флакон «Капель доктора Норриса от воспаления», открыл пробку, принюхался, а затем выкинул все флаконы в сад.
Несколько дней он спал урывками, на ходу или выжимая компрессы. Он протирал больную, менял ей простыни и постоянно поил с ложечки. Пока он мыл Мари, пока стирал горький пот с ее спины, груди и мягкого округлого живота, то не был равнодушен к ее чарам. Красивая девушка, кашляющая, как рудокоп, и пахнущая, словно прогнивший фрукт, все равно остается красивой. Жар воспаления подражает горячке любовной страсти. Ее вздохи напоминали томные стоны, которые он наконец вырвал из груди Мари в лабиринте. Ничто не мешало ему воспользоваться желанной свободой и овладеть Шарпийон. Она была в его власти. Разве он не мог лечь с ней рядом, как компресс, как благословение, как призрак в горячечном бреду? От жара воспаленных мыслей у него пересыхало во рту, но руки продолжали работать и творить доброе дело. Она скрежетала зубами и могла бы стереть их в пыль. Чтобы этого не произошло, он просунул ей в рот один из гибких пальцев своих перчаток.