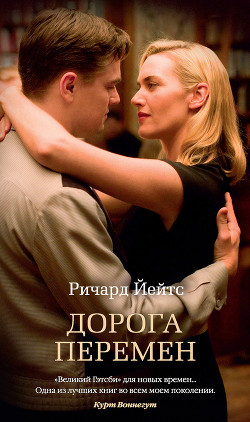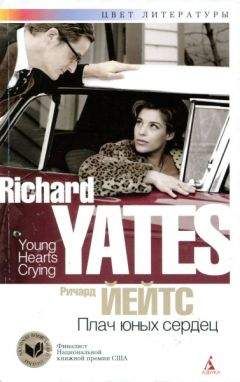«Боюсь, я плотно занят весь месяц», — говорит начальник, сладострастно прижав щекой телефонную трубку и листая ежедневник; его рот и глаза выдают чувство полнейшей неуязвимости. Хрустящие, густо исписанные страницы подтверждают: непредвиденности, катастрофы и выверты судьбы невозможны до конца месяца. Крах и мор загнаны в тупик, и даже самой смерти придется подождать — он плотно занят.
«Дайте-ка вспомнить, — говорит глубокий старик, склонив набок облезлую голову и озадаченно щурясь на солнце, — моя первая жена скончалась весной…» На миг его поражает ужас. Весной — чего? Прошлого? Будущего? Что есть любая весна, как не бессмысленная перегруппировка клеток в корке Земли, вращающейся в бесконечном облете Солнца? Что есть Солнце, как не одна из миллиардов бесчувственных звезд, совершающих вечное путешествие из ниоткуда в ничто? Бесконечность! Но вскоре усталые клапаны и рубильники в мозгах старика милосердно принимаются за работу, и тогда он выговаривает: «Весной тысяча девятьсот шестого… Нет, постойте…» От кружения галактик вновь стынет кровь. «Сейчас… тысяча девятьсот… четвертого». Теперь он уверен и в приливе радости от восстановленного благоденствия невольно хлопает себя по ляжке. Возможно, он забыл улыбку и плач своей первой жены, но, привязав ее смерть к набору цифр, он придал логичность своей жизни и жизни вообще. Теперь все другие годы послушно встают на свои места, и каждый упорядоченно вносит свой вклад в общую картину. Тысяча девятьсот десятый, тысяча девятьсот двадцатый — конечно же, он помнит! — тысяча девятьсот тридцатый, тысяча девятьсот сороковой, и так вплоть до настоящего, а далее к ласковым посулам будущего. Земля возвращается в свою благословенную неподвижность — чувствуете запах молодой травки? — и величественное древнее Солнце висит там же, откуда улыбалось все эти годы. «Да сэр, — авторитетно заявляет старик, — тысяча девятьсот четвертый», и ночные звезды станут радостными знаками его конечного небесного покоя. Хаос превращен в порядок.
Начало лета 1955 года стало бы непереносимым для супругов Уилер, и все обернулось бы совсем иначе, если б не кухонный календарь. Сей новогодний дар фирмы «А. Дж. Столпер и сыновья, Скобяные изделия и Домашняя утварь», иллюстрированный сельскими пейзажами Новой Англии, являл собой тот вид численника, где на странице каждого текущего месяца помещены таблицы прошедшего и следующего месяцев, что позволяет одним пытливым взором охватить весь квартал.
Супруги установили дату зачатия — конец первой майской недели, то есть через неделю после дня рождения Фрэнка; та ночь, обоим запомнившаяся его шепотом: «Похоже, там что-то болтается» — и ее шелестом: «Да нет, все нормально, не останавливайся…» (уже потом для большей уверенности Эйприл купила новый колпачок), определяла первую семидневку августа на следующей странице, до которой оставалось еще более четырех недель, как загадочный срок «в самом конце третьего месяца», когда-то давно означенный моментом для безопасного применения клизмы.
Паника швырнула Эйприл в аптеку через минуту после визита к врачу, паника швырнула Фрэнка в кухню через минуту после находки в шкафу, и та же паника заставила их под аккомпанемент мультяшной музыки из гостиной в немом бешенстве пялиться друг на друга сквозь кухонный чад. Однако позже вечером, когда каждый тайком изучил календарь, паника сникла, ибо стало ясно, что до критической черты еще целые ряды логично упорядоченных дней, ждущих, чтобы их прожили разумно. Впереди была уйма времени, дабы все обдумать и принять верное решение.
— Милый, прости, что я так ужасно себя вела, но ты сразу набросился на меня, хотя мы еще ничего толком не обсудили.
— Я все понимаю.
Фрэнк погладил жену по вздрагивающему плечу. Он знал: эти слезы не означают капитуляцию. В лучшем случае они подтверждали его первоначальное подозрение: Эйприл сама хочет, чтобы ее отговорили; в худшем — это был знак, что она не желает спорить и, почерпнув в календаре уверенность, воспринимает эти четыре недели как щедрый шанс потихоньку склонить его на свою сторону. Но при любом раскладе они означали, что жена с ним считается и беспокоится о нем, а потому сердце Фрэнка, когда он ее обнимал и поглаживал, полнилось благодарностью. Пока что ее внимание — это самое главное.
— Ведь мы должны быть заодно, правда? — чуть отстранившись, спросила Эйприл. — Иначе все бессмысленно. Ведь так?
— Конечно. Можем сейчас поговорить? Мне есть что сказать.
— Да. Я тоже хочу все обсудить. Только давай пообещаем не ссориться, ладно? Из этого нельзя устраивать свару.
— Понятно. Слушай…
Вот так был открыт путь для тихих, сдержанных и убийственно серьезных бесед, которые заполняли дни календаря и обоих держали во взвинченном, но не лишенном приятности состоянии, какое бывает при ухаживании.
Сходство с ухаживанием было и в том, что стараниями Фрэнка единоборство велось в умело продуманном разнообразии декораций. Неисчислимые сотни тысяч слов были произнесены в доме и за его пределами: в долгих ночных поездках среди холмов, в дорогих загородных и нью-йоркских ресторанах. За две недели они совершили выходов в свет больше, чем за весь прошлый год, вот почему в начале второй семидневки Фрэнку показалось, что он побеждает: Эйприл не противилась столь бешеным тратам, что, безусловно, имело бы место, если б она по-прежнему собиралась осенью отбыть в Европу.
Хотя к тому времени столь мелкие знаки уже не требовались. Почти сразу Фрэнк захватил инициативу и был обоснованно уверен в победе. Тем более идея, которую он хотел продать, была благая: неэгоистичная, зрелая и (хоть он пытался избежать морализирования) неоспоримо нравственная. А вот идея Эйприл, как ее ни романтизируй, была отвратительна.
— Фрэнк, неужели ты не понимаешь, что я это делаю только ради тебя! Можешь ты в это поверить или хотя бы попытаться поверить?
В ответ он грустно улыбался из форта своей убежденности:
— Как это может быть, если при одной мысли об этом меня всего переворачивает? Вникни, Эйприл. Пожалуйста.
В начальной фазе кампании главная тактическая проблема заключалась в том, чтобы представить свою позицию привлекательной и похвальной. Здесь помогли городские и загородные рестораны, где тотчас увидишь мир красивых, элегантных и бесспорно успешных мужчин и женщин, которые как-то исхитрились одолеть среду, скучную работу обернуть себе на выгоду и пользоваться системой, не прогибаясь под нее, и которые, разумеется, поддержали бы Фрэнка, если б знали обстоятельства четы Уилер.
— Хорошо. Предположим, все это произойдет, — говорила Эйприл, выслушав мужа. — Допустим, через два года мы станем холеными и ухоженными, обзаведемся кучей прелестных друзей и каждое лето будем подолгу отдыхать в Европе. Ты вправду думаешь, что станешь счастливее? Ведь ты по-прежнему будешь тратить свои лучшие спелые годы на пустую и бессмысленную…
Этот мяч шел прямо в ловушку:
— Пусть это будет моей заботой.
Чего будут стоить его лучшие спелые годы, спрашивал он, если ради них нужно согласиться на преступное увечье жены?
— Потому что именно так оно будет, и от этого никуда не деться. Ты хочешь совершить преступление против своей сущности. И моей тоже.
Иногда она осторожно обвиняла его в том, что он все слишком драматизирует. Через это проходит уйма женщин, и все живы-здоровы; та однокашница это делала по меньшей мере дважды. Другое дело, если затянуть до четвертого месяца, уступала Эйприл.
— Вот тогда были бы веские основания для беспокойства. А сейчас, когда можно точно высчитать срок, все абсолютно безопасно.
Однако стоило ей произнести слово «безопасно», как Фрэнк надувал щеки, хмурился и качал головой, словно его просили согласиться с тем, что геноцид может иметь моральное оправдание. Не выйдет.
Вскоре в ее голосе появилась легкая неуверенность, а взгляд уходил в сторону, когда бы она ни заводила речь о безоговорочной необходимости процедуры, которую даже в самых откровенных беседах называла «сделать это», будто в присутствии любящего и обеспокоенного мужа слово «аборт» выходило за рамки приличий. Самым обнадеживающим знаком было то, что временами Фрэнк ловил на себе ее взгляды украдкой, затуманенные романтическим восхищением.