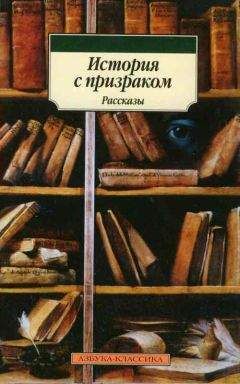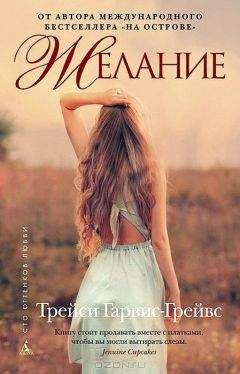Но что делать с грязными пеленками? Они лежали у Дороти в корзинке и откровенно воняли. Как же она не догадалась выбросить их в мусорный бак на платформе, пока ждала поезд? Придется это сделать сейчас. Подхватив Джона и злополучную корзинку, Дороти вышла в коридор. Улыбаясь, она проталкивалась сквозь курящих солдат. Те оглядывали ее с головы до ног. Найдя свободное окно, Дороти опустила корзинку на пол и одной рукой открыла створку. В окошко ворвался холодный ветер вперемешку с паровозным дымом, угрюмый, как дыхание смерти. Дороти выбрасывала грязные пеленки, и они исчезали. А поезд, качаясь и гремя, несся дальше, и серый январский день готовился уступить место сумеркам.
Без трех минут пять поезд остановился у платформы вокзала в Оксфорде. Вместе с ребенком и вещами Дороти выбралась из вагона. Ее путешествие почти завершилось. Теперь, когда они с Джоном находились в Оксфорде, далеко от Линкольншира, от Эгги, Нины и миссис Комптон, она почувствовала, что это действительно ее ребенок. Здесь никто не знал тайны его рождения. Дрожа от волнения и усталости, Дороти прошла в билетный зал и села передохнуть. Джон спал.
Отдыхала она недолго – всего несколько минут, а потом покинула вокзал. Целых семь лет она не видела родного города и сейчас восхищалась его знакомым величием и неистребимой атмосферой превосходства. В Оксфорде стало темнее обычного. Режим светомаскировки соблюдался здесь строго. Она решила, что пойдет пешком. Дороти ждал неблизкий путь к родному дому. Мать жила в северной части города. Идти туда, учитывая, что она не с пустыми руками, придется не менее часа. Она устала, очень устала, но решительно не хотела втискиваться в автобус. Хватит с нее транспорта. С некоторым облегчением Дороти отметила, что снега здесь меньше да и погода помягче. (Она успела привыкнуть к морозным вечерам.) Она шла по Джордж-стрит. У дверей кинотеатра «Риц» стояла очередь продрогших, утомленных войной людей. Им хотелось поскорее попасть в тепло и увидеть более интересную жизнь, чем их военные будни. Дороти шла мимо магазинов. Некоторые из них она помнила, другие нет. Все были уже закрыты: продавцы, как и она, возвращались домой.
Дороти устало переставляла ноги. Шаг за шагом.
«Ничего не загадывай наперед, – мысленно твердила она себе. – Будь здесь и сейчас и благодари судьбу».
Дом, стоявший чуть в стороне от Вудсток-роуд, ничуть не изменился. Во всяком случае, в сумерках Дороти не заметила никаких перемен. Все та же синяя входная дверь. Дороти остановилась, глубоко дыша и подготавливаясь к завершающему этапу своего путешествия. Нажала кнопку звонка. Проснувшийся Джон захныкал. У Дороти горели руки, уставшие нести ребенка и чемодан. Все остальные вещи висели у нее на плечах. Как было бы здорово сейчас положить Джона куда-нибудь. Совсем ненадолго, только чтобы дать отдых рукам. Она боялась, что руки разожмутся сами собой или она от усталости потеряет сознание.
Ей открыла мать. Она стояла в слабо освещенном проеме, всматривалась и, кажется, не узнавала свою дочь. Неужели Дороти так изменилась? Лицо матери было настороженным. Складки возле рта – признак вечного недовольства – исчезли, зато прибавилось морщин на лице. Мать выглядела усталой и заметно постаревшей. В ее облике чувствовалось одиночество.
– Здравствуй, мама.
– Ты приехала? – выдохнула мать Дороти, прижимая к груди морщинистую руку.
Она посмотрела на малыша, который сейчас мяукал, как котенок, но становился все беспокойнее. Его недовольство тоже нарастало.
Дороти знала: очень скоро мяуканье сменится пронзительными криками. Джон требовал молока. Немедленно. Их путешествие закончилось. Он вполне прилично себя вел и потому вправе рассчитывать на полный рожок.
– Это твой внук Джон. Мама, я тебе писала, что мы вернемся домой. Вот мы и вернулись.
Мать Дороти протянула руки к малышу. Дороти охотно передала ей ребенка и опустила на крыльцо весь остальной багаж. С пустыми руками она почувствовала себя легкой и невесомой. После стольких часов нагрузки она вдруг ощутила странную и даже болезненную пустоту.
– Все это было как-то неожиданно, – начала Дороти. – Но отец Джона – прекрасный человек. Это я тебе вполне серьезно говорю. Летает на «харрикейне». Он командир эскадрильи, как Дуглас Бадер [6]. Только не англичанин, а поляк. Его сильно ранили в руку, но он сумел посадить самолет. Смелый и очень достойный человек… Я тебе писала, что меня… в общем, попросили освободить дом… – Дороти умолкла, устыдившись свой бессвязной болтовни.
Мать даже не слушала ее, качая и успокаивая малыша.
– Дом уже не тот, каким ты его помнишь, – медленно произнесла она. – Надеюсь, ты вернулась по-настоящему? Слуг у меня больше нет. Оплачивать их я больше не в силах. В твоей комнате – все как было до твоего отъезда. Разве что пыли добавилось. Но с этим ты справишься.
Казалось, мать Дороти только сейчас сообразила, что они разговаривают через порог.
– Боже мой, что мы здесь стоим и морозим ребенка? Потом поговорим!
– Мама…
– Дорогая, ты очень устала. Я недавно затопила камин. Чай еще горячий. Было у меня предчувствие, что ты сегодня приедешь… Точно, было. Входи. Дверь у нас все так же туго закрывается… Знаешь, Дороти, давай не будем вспоминать прошлое. Входи же. Матери и дочери негоже разговаривать через порог.
Дороти вошла в родной дом, и мать плотно закрыла входную дверь.
32
«Поздравляю мамочку с Днем матери. Я тебя очень-очень-очень люблю. Бобби». Открытка самодельная, с детским рисунком, изображающим маму с девочкой, дерево, траву и цветы. В углу – огромное солнце. Почерк по-детски неустойчивый: буквы то лезут вверх, то сползают вниз. Очень приятная вещь. Наверное, ее рисовала другая маленькая Роберта. Интересно, знает ли ее мать о пропаже открытки? А если знает, сожалеет ли, что потеряла такой чудесный рисунок? У меня открытка не потеряется.
(Найдена внутри романа Румер Годден «Черный нарцисс», который издательство «Пингвин» в далеком 1950 году выпустило массовым тиражом. Книгу оценили в пять фунтов, и я купила ее.)
Письмо, адресованное мне, лежит у меня в сумочке. Я еще не открывала его. Оно от Филипа. Его почерк я узнаю всегда. О содержании могу только догадываться, но почему-то боюсь читать. Глупо, конечно. Наверное, когда он пришел спасать меня от простуды, я была с ним излишне откровенна, и письмо – способ деликатно поставить меня на место. Мне не хочется испытывать смущение, читая его упреки, пусть даже высказанные изящно и тактично. Поэтому я ношу письмо в сумочке и считаю, что это нормально. Филип тоже помалкивает. Можно подумать, будто никакого письма и не было.
День сегодня солнечный и холодный. С утра, как только магазин открылся, я делаю кофе на всех. Затем Филип просит меня помочь разобрать завалы в его катастрофически запущенном кабинете. По его словам, порядок там не наводился с 2001 года. Возможно, так оно и есть.
Мы молча и сосредоточенно трудимся. Незаметно проходит час. Пыли в его святилище и впрямь предостаточно. А среди груды книг мы обнаруживаем множество забытых сокровищ, которые давным-давно надо было выставить на продажу.
– Роберта! – окликает меня Филип.
– Угу, – бормочу я, продолжая вытирать пыль.
Филип роется в бумагах.
– Насчет твоей матери, – вдруг произносит он.
Я замираю. Тряпка повисает у меня в руке.
– А при чем тут она?
– Конечно, это не мое дело. Ты извини, если мой вопрос тебе неприятен, но… она знает о кончине твоего отца?
Молчание.
– Нет, я не сообщала ей, – наконец выдавливаю я.
– Как ты думаешь, ей следует знать? – тихо спрашивает он, внимательно глядя на меня через стекла очков. – Подобные события вряд ли стоит утаивать.
Я отворачиваюсь. Мне не хочется говорить о матери. Филип ни разу не заводил со мной разговора о ней. Не нравится мне все это.