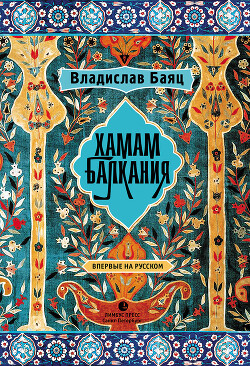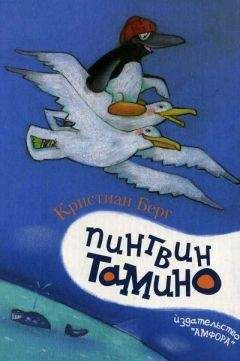Синан не смутился:
– Кто я такой, чтобы написать свое имя на доме Аллаха? Султан расплылся от удовольствия – таких подданных у него еще не было.
Глава Ю
Я уж и не припомню, сколько раз приезжал в Турцию ради сбора материалов для этой книги. Даже отправляясь туда на отдых с семьей, кроме общего удовольствия, которое мы каждый раз получали в этой уникальной и странноватой стране, я всегда уворовывал хотя бы момент от права на туризм и отдых в попытках отыскать еще какой-нибудь материал. Выводы, к которым я приходил во время многолетних поисков, иной раз были весьма неожиданными. Примерно так, как я однажды, в одной из фаз жизни, потерял веру в литературу, поскольку решил, что нашел себя в музыке, которая мне тогда показалась привлекательнее литературы. Так и в поисках материалов о своих героях я нередко вдохновлялся увиденным больше, чем прочитанным. Однако повезло, что уже тогда главным героем наряду с архитектором Коджой Мимаром Синаном был, как мы сказали бы сегодня, политик – Мехмед-паша Соколович, а не какой-то писатель. Случись так, тот литератор оказался бы в книге в очень невыгодном по сравнению с архитектором положении. Потому что, так монументально восстав передо мной, убедительно торжествовала огромная сила возведенных строений, которые я, как и любой другой, мог попытаться описать. И провалиться. Потому что слова ничего не могли поделать с ними. Эти живые картины были величественны по сравнению со всем прочим. Наверное, здесь увиденное и пережитое сливалось воедино в некое неизвестное мне новое искусство. Несуществующее. Которое невозможно создать, потому что его основу составляли чересчур разнящиеся средства. Как превратить хамам в нечто новое, чтобы при этом оно, это новое, не было ни его фотографией, ни его описанием? И чтобы это было искусством.
Перед конкретной музыкой, которая в свое время отвратила меня от писательства, не было подобной проблемы, потому что она была новой, но возникшей внутри собственного искусства. Хотя и ее, откровенно говоря, создавали не писанные слова. А тогда какие же? Несуществующие! Валлийский композитор Карл Дженкинс в конце восьмидесятых годов XX века, опираясь на традиции классической музыки, которой он обучался, внес в уже известный тогда этностиль современной музыки совершенно новые элементы. Как всякий ловкий и несколько хитроумный знаток нот, он понимал, что тоньше всего задевать душу может инструмент, наиболее близкий к человеческому голосу, – виолончель, и весьма обильно пользовался ей, но вместе с ней – и голосом! Вместе с частичным солированием он ввел традицию женского хорового пения а капелла африканских племен в созданные им рамки. Но голосу он предназначил только пение, но не понимание. Язык, или исполняемый текст, был несуществующим, вымышленным. Так, рискуя что-то проиграть в композиции, суть всеобщего слушания он акцентированно передвинул в сферу прямого восприятия, а не привычного разделения на слушание и понимание текста. Может быть, потому, что он эту композицию, как я понял, посвятил именно богам: одному всеобщему и каждому в отдельности. Название его «Адиемуса» имеет латинские корни; видимо, он назвал его так, чтобы в композиции можно было узнать традицию, из которой вырос композитор. Ну, хорошо, по крайней мере, он имеет на это право, раз уж все прочее подчинил общему знаменателю. Потому что, как утверждает подзаголовок, это «Песни из святилища». Эту музыку (в этом случае следовало бы сказать – проект) он растянул на несколько лет и на несколько музыкальных томов. Благодаря ей мир стал лучше. Ну, а если и не мир, то, во всяком случае, я.
Как Дженкинс перед своим образом некоего бога, так и я стоял очарованным перед зданиями Синана. Мое детское удивление ничуть не умаляло предыдущее знание того, что я увидел перед собой. Наверное, температуру нагнетали и сами поиски, которые иной раз превращались в настоящее приключение. Особенно часто у меня перехватывало дыхание, когда я внезапно на открытом пространстве встречал строение, стиснутое другими, или когда оно вдруг являлось мне за поворотом. А особенно то, которое я, не находя, разыскивал из года в год. И если вдруг обнаруживал его… Однако счастье обнаружения часто превращалось в туристическое легкомыслие: приходилось сфотографировать «объект», что-то немедленно записать, рассмотреть столько деталей, сколько позволяло время или установленные правила, и все это впитать в себя с мыслью о том, что вряд ли когда-нибудь удастся сказать о нем что-нибудь стоящее. Со временем я превратился в объемистый архивный шкаф, который трудно передвигать с места на место из-за его веса. Но мегаломания собирания обильных сведений сама по себе не пугала меня. Всегда используется лишь исключительно малая часть содержимого этого шкафа. У меня есть опыт в этом деле. Сотни сведений, которые кто-то назвал бы излишними, исполняют ту же роль, что и воздушные подушки в автомобиле, они защищают нас от ударов неудач или болезней. Счастье, что писатель – упрямое существо, которое нелегко поддается неудачам и болезням. По крайней мере, старается не поддаваться.
Со временем я научился рассматривать здания, как музыку. Я полностью отключался от реальности и видел музыку. Когда появлялись духовые (о виолончели и не говорю), тона обретали широту, сложность в конце перерастала в сущую простоту – и здание занимало свое место на полочке. Шкаф исчезал. Сочинительство могло спокойно возобновиться.
Желая того или нет, Синан стал знаменитым благодаря своим самым крупным творениям. Это и понятно: мечети были местом, где обращались к Богу, знаменитыми спонсорами их строительства стали султаны и великие визири, которые тогда единственные сокрушенно предлагали все свое богатство более великому. Бесспорна монументальность Селимии в Эдирне и Сулеймании в Стамбуле. В них вложены знание, богатство, вера, умение всей империи. Потому что они – памятники всего всему. Подарок одной эпохи другой.
Но как Божьи дома связывали времена, так и мосты Синана соединяли берега и людей. На протяжении десяти лет он создал два абсолютно разных, но одинаково величественных моста: Буюк Чекмедже и Вишеградский. Один появился по необходимости, когда султан Сулейман, возвращаясь с охоты в Топкапи-сарай, едва остался в живых, свалившись вместе с конями в лагуну этого пригорода Истанбула, там, где она соединяется с Мраморным морем. Это был повод, но причина была в следующем: то была трасса, по которой османское войско десятилетиями направлялось в поход на Европу. Следующий поход планировался уже в следующем году. И возвращение из него. Так Синан по необходимости выстроил на пожертвования султана «мост-гору» или «четыре ослиных спины»! Мост выстроен в четыре свода, собственно, это четыре отдельных и соединенных между собой моста, каждый из которых плавно возвышается к своей горной вершине, той, по которой проходят, после чего опускается к своему окончанию – и так четыре раза. Двадцать шесть сводчатых опор этого странного моста кажутся – но только на первый взгляд – занимательным архитектурным сооружением. (Наверное, потому, что действительно напоминают четыре сгорбленных спины.) Но, помимо того что это действительно архитектурное чудо XVI века, оно – истинная красота, соединившая оригинальную элегантность и фундаментальность.
Вишеградский мост в Боснии – признание великого визиря Мехмед-паши Соколовича в любви к родному краю, в которую он вовлек друга, изначально православного, Мимара Синана. Мост был и долгое время оставался исключительно важным, поскольку соединял не просто два берега реки Дрины, но и две части мира. Этот мост выглядит более прочным, твердым и массивным, но он сохранил особо элегантную линию.
Оба моста являют собою, хоть и по-разному, автограф создателей. Единственное строение из всех примерно четырех сотен (по некоторым источникам, более четырехсот семидесяти) на трех континентах, на которых Синан оставил свое имя, – это мост в Чекмедже. Сохранилась даже его фраза, сказанная о нем: «Это шедевр среди всех моих строений».