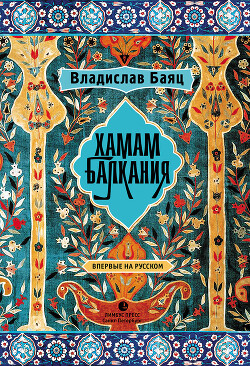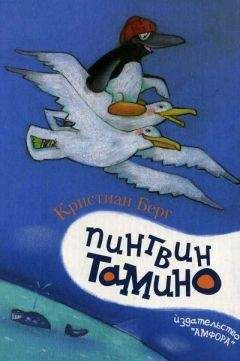Последовавший период показал, что подготовка Мехмеда к должности хранителя великой печати империи была правильной: ему не пришлось приспосабливаться к новому властелину, не надо было придумывать ничего нового. Впрочем, перед встречей в Белграде с наследником престола он, возвращаясь из Сигетвара, успел назначить двух своих родственников на два стратегически важных поста в Румелии: Мустафа-паша Соколович стал наместником в Буде, а его младший брат Мехмед Соколович принял должность санджак-бега Боснии. Баица успешно занимался всеми делами империи, а новый султан, несколько тяготившийся государственными заботами, вручил их в его верные руки.
Баица уверенно правил все семь лет султана Селима. А почему бы и нет, если он накопил огромный опыт, служа империи в течение более чем полувека! Этот опыт пригодился и сыну Селима, новому султану Мурату Третьему. Несмотря на то что Мехмед-паше в то время было уже почти семьдесят лет, никто не мог составить ему конкуренцию в руководстве державой. Даже Мурат, который с первых дней невзлюбил Мехмед-пашу, не хотел добровольно отказаться от него. По крайней мере, пока. И сын, и внук Сулеймана Великолепного не измеряли опыт и приверженность Мехмед-паши величайшему османскому властелину по тому единственному году, который тот прослужил ему великим визирем. Они измеряли его способности по всем пятидесяти годам, которые он провел рядом с султаном. Они понимали, что из всех званий, которыми его наделял властелин, больше всего было таких, которые предполагали, что он будет не ближайшим, а как можно более близким своему хозяину. Было понятно, что султан желал видеть его рядом с собой и потому выбирал должности, которые позволяли удерживать его рядом. И даже когда Баица стал великим визирем, он по приказу Сулеймана переселился, чтобы быть еще ближе к султану, в сарай на Ат-Мейдане, у подножия Топкапи-сарая. Баица без удовольствия оставил доброго соседа шейх-уль-ислама Ахмади, вынужденно отказавшись от совместных прогулок.
Такого верного и преданного чиновника в государстве давно не видели. Разве держава не дала ясно понять, чего она хочет, назначив его великим визирем трех султанов, оказав ему честь и доверие, которого так и не увидел ни один глава дивана?
А чего же хотел он? Оставить по себе след в камне. Где?
В родных местах.
После конца (вода)
Со временем отношения между Синаном и Мехмедом приобрели новые, несколько странные очертания. В связи с нынешними высокими положениями их обязанности возросли, так что все меньше времени они могли проводить вместе. С другой стороны, благодаря прекрасному взаимопониманию их дружба ничуть не ослабла, просто им пришлось смириться со своим положением. Но они не сдались, а придумали способ, как оставаться вместе даже на расстоянии. Какой? Просто каждый делал свое дело в рамках прежних планов и договоренностей: Баица финансировал, а Иосиф строил. Наконец-то теперь, как предвидел Синан, Мехмед мог позволить себе оплатить собственные замыслы. Оба они догадались, что в большинстве случаев их будет связывать вода. Кроме того, что она была источником жизни и эту самую жизнь поддерживала, вода обладала величественной способностью влиять на физическое и духовное очищение человека. Поэтому они считали ее идеальной связующей тканью (Синан сказал бы, «связующим материалом») той жизни, которой они некогда жили, с их нынешним существованием.
В то время когда в Большой чаршии Белграда Мехмед-паша с помощью Синана выстроил фонтан, был готов и совершенно новый (рядом с уже существующим) хамам Баицы. Его назвали Ени хамам [66]. Прошло немногим менее ста лет, и в 1658 году очень интересную похвалу воде, а также жителям Белграда дал французский путешественник А. Пуле. На примере Белграда он попытался объяснить глубокий смысл существования общественных бань: «Бани в Леванте, собственно говоря, являются парилками, потому что человек в них не купается, хотя и моется, демонстрируя, что все люди справляются с делами, к которым испытывают наклонности, и что дух этих людей… настолько утончен во взглядах на бани, что нам было бы трудно подражать им» (курсив мой. – В. Б.).
Это определение Пуле в своем философском созвучии указывает на общую черту, характерную для сербов и османов того (и не только того) времени: такая вода и ее употребление обладали живительной силой. Она была составной частью очень важной склонности обитателей Балкан к гедонизму, состоявшему из тончайших вариаций на тему самоудовлетворения вплоть до мазохистского исполнения собственных желаний (начиная с пищи и далее). Как сказал Эвлия Челеби примерно в 1660 году: «Все эти люди умеют наслаждаться и веселиться и дружат с чужаками. Встречают их гостеприимными трапезами и открытыми дверями».
И Синан, и Мехмед прожили долгую и богатую жизнь [67]. Но даже когда они только предполагали, что их жизни будут таковыми, они стремились к тому, чтобы судьбы их были связаны навсегда. Как сами они были прочно связаны со своими предыдущими жизнями. Их взаимосвязь со временем только крепла.
Все свои предположения и условные открытия я должен был сверить с Орханом Памуком. Он был для меня образцом объективности: достаточно хорошо знал и Восток, и Запад и не впадал в крайности одной и другой «стороны».
Поскольку мы ведем разговор о воде, Памук напомнил мне, что султан Сулейман поручил Синану привести в порядок водопровод в Истанбуле. Это поручение выглядело весьма прагматичным, потому что ни один большой город не мог жить без постоянного водоснабжения, тем не менее взгляд султана на воду был необычным. В одном из документов он объявил Синану и народу: «Хочу, чтобы вода попала в каждый уголок города. Пусть построят фонтаны там, где только возможно. Колодцы пусть выроют повсюду, пусть даже там, где это невозможно. Пусть свежая вода будет повсюду. Пусть все мои подданные пользуются ею и молятся за мою вечную державу». Во всяком случае, благодаря им обоим столица получила акведук Кагитане (1557) и Кирк-чешме (1564), Маглоба и Узун. В том числе благодаря и гражданам сербского Белграда, которые после его падения переселились в Стамбул, чтобы строить там водопровод и упомянутые акведуки, и вскоре после переселения основали посреди Истанбула свой новый Белград. Местные жители, видимо, в их честь дали отдельным районам города похожие имена: Белградские Ворота, Белградский Лес…
– Вода вмешалась и в историю с Айя-Софией, – продолжил мой рассказ Памук. – Кроме того что Синан укрепил подпорные стенки этого чуда архитектуры и мечты каждого строителя того времени, приложив тем самым руки к христианскому, а потом и мусульманскому храму, который ныне примирил эти религии, став музеем, он внес в этот комплекс и нечто новое. Любовь Сулеймана и его жена Хасеки Хюррем задолго до этого, в 1557 году, пожелала, чтобы для нее возвели хамам, обязательно рядом с Айя-Софией, с отделениями для мужчин и для женщин. И у нее получилось! Как ты думаешь почему?
– Кажется, знаю. Она воспользовалась тем, что это сделал бывший христианин. Ведь она «в своей прежней жизни» была Роксоланой, дочерью русского священника. Близость бывшей византийской церкви поддерживала своеобразное равновесие в ее новой жизни. Не думаешь ли ты, что простым совпадением является то, что в 1573/74 году именно Синану / Юсуфу / Иосифу было приказано или, точнее говоря, разрешено произвести серьезные реставрационные работы на Айя-Софии? Кроме укрепления стен, он выстроил два минарета и именно там возвел гробницу султану Селиму.
– Правда, Синан строил хамамы по всей империи. Хотя мне дороже всех тот, что он выстроил для дочери Сулеймана Михримах в 1565 году рядом с медресе в Эдирнекапы.
– Знаешь, – добавил я, – мне нравится его неудержимость в строительстве. Не столько энергия, которая легко угадывается в его строениях, сколько непринужденность в выборе места – будь то столица или провинция. Комплекс, который я посетил в Люлебургазе, на полпути между Эдирне и Стамбулом, выглядит волшебно и непретенциозно и идеально вписывается в атмосферу провинциального города. Я думаю, секрет Синана состоял в том, что он понимал: архитектура означает не только строительство, но и умение наилучшим образом заполнить занимаемое строением пространство и тем самым сделать его единым целым с окрестностями. Прежде я не обращал на это внимания, но он открыл мне глаза. Так же как однажды я понял, что скульптура должна возникать не в результате добавления материала, а, напротив, после его изъятия!