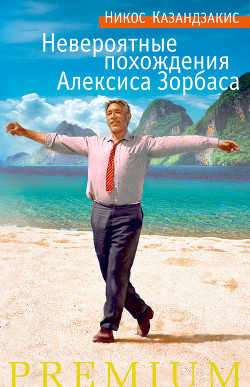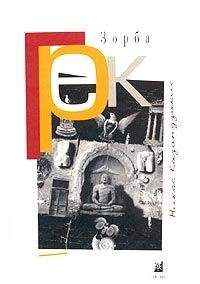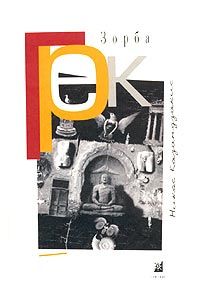26
Все было кончено. Зорба собрал на пляже тросы, инструменты, вагонетки, куски покореженного металла, строительный лес, чтобы погрузить на ожидаемый каик.
— Я тебе все это дарю, Зорба, — сказал я, — все это твое, желаю удачи!
У Зорбы сжалось горло, он с трудом подавил слезы.
— Мы расстаемся? — прошептал он. — Куда ты поедешь, хозяин?
— Я еду за границу, Зорба; во мне сидит прожорливая козочка, у которой полно бумаги, которую надо сжевать.
— Так ты еще не исправился, хозяин?
— Нет, Зорба, я исправился и все это благодаря тебе, но следуя твоим путем, я сделаю с книгами то же, что ты сделал с вишнями: проглочу столько писанины, что меня вытошнит, и я от этого избавлюсь.
— А что будет со мной без тебя, хозяин?
— Не печалься, Зорба, мы еще встретимся, и, кто знает, сила человека удивительна! Однажды мы осуществим наш великий проект: мы построим себе монастырь, без Бога, дьявола, в нем будут только свободные люди; а ты, Зорба, ты будешь привратником с большими ключами в руках, как святой Петр, чтобы открывать и закрывать… Зорба, сидя на земле и опираясь спиной о хижину, без конца наполнял свой стакан и молчал.
Наступила ночь, мы закончили наш ужин и, попивая вино, вели последнюю нашу беседу. На следующий день, ранним утром нам предстояло расстаться.
— Да, да… — говорил Зорба, дергая себя за усы и продолжая пить. — Да, да…
В небе было полно звезд, синяя ночь струилась над нашими головами; наши сердца жаждали выражений глубоких чувств, но что-то их сдерживало.
«Попрощайся с ним навсегда, — думал я, — посмотри на него как следует, ведь никогда больше, никогда больше ты не увидишь Зорбу!»
Я едва сдерживался, чтобы не прижаться к этой старой груди и не разрыдаться, но мне было стыдно. Пытался смеяться, чтобы спрятать свои чувства, но мне это не удавалось. Горло мое сжималось.
Я смотрел на Зорбу, который, вытянув свою шею хищной птицы, молча пил. Глаза мои затуманились: что это за таинственная нестерпимая боль, имя которой жизнь?
Люди встречаются и расстаются, словно листья, гонимые ветром; напрасно взгляд силится удержать в памяти лицо, тело, жесты любимого существа; через несколько лет ты не сможешь вспомнить были ли его глаза голубыми или черными.
«Она должна быть из бронзы или из стали, человеческая душа, — кричал я про себя, — только не из воздуха!»
Зорба пил, держа свою голову очень прямо и неподвижно. Можно было подумать, что он прислушивался к шагам в ночи, которые приближались или удалялись от самых глубин его существа.
— О чем ты думаешь, Зорба?
— А о чем бы ты хотел, чтобы я думал, хозяин? Да ни о чем. Ни о чем, говорю тебе! Я ни о чем не думаю. Через минуту, вновь наполняя свой стакан, он сказал:
— За твое здоровье, хозяин!
Мы чокнулись. Такая глубокая печаль не могла столь долго ранить наши души, нужно было или разрыдаться, или напиться, или же без памяти танцевать.
— Сыграй, Зорба! — предложил я.
— Сантури, я уже говорил тебе, отзывается счастливому сердцу. Я сыграю теперь, может, через месяц, два, возможно, через два года, пока не знаю! Спою тогда, как два живых существа расстались навсегда.
— Навсегда! — в ужасе воскликнул я, повторяя про себя это фатальное слово.
— Навсегда! — повторил Зорба, с трудом сглотнув слюну. — Да, навсегда. Твои слова, что мы снова встретимся и построим наш монастырь, это недостойная попытка утешения; я этого не принимаю! Мне такого не надо. Мы что, разве какие-нибудь самочки, чтобы нуждаться в утешениях? Да, навсегда!
— Возможно, я останусь с тобой здесь… — сказал я, меня привела в ужас суровая нежность Зорбы. — Может случиться, что я пойду с тобой. Я свободен!
Зорба покачал головой.
— Нет, ты не свободен, — возразил он. — Веревка, которой ты привязан, чуть длиннее, чем у других. Вот и все. У тебя, хозяин, шнурок подлиннее, ты уходишь, приходишь, ты полагаешь, что ты свободен, но ты не перережешь этого шнурка! А когда не могут его перерезать…
— Когда-нибудь я его перережу! — сказал я с вызовом, ибо слова Зорбы задели во мне открытую рану, и мне стало нестерпимо больно.
— Это трудно, хозяин, очень трудно. Для этого надо быть чуточку не в себе, ты слышишь? Рискнуть всем! Однако у тебя есть разум, и он благополучно доведет тебя до конца. Мозг, наподобие бакалейщика, ведет учет: заплатил столько, выручил столько, вот мой доход, вот потери! Это осторожный мелкий лавочник, который никогда не рискнет всем, а всегда кое-что прибережет. Ему не оборвать шнурка, нет! Он его крепко держит в руках, мошенник. Когда выпустит его из рук — он пропал, бедняга! Однако если ты не оборвешь шнурок, скажи, какой будет вкус у жизни? Вкус лекарственной ромашки, пресный вкус ромашки! Это тебе не ром, который покажет мир с изнанки! Старый грек замолчал и снова налил себе, но пить не стал.
— Ты уж меня извини, мужлана, хозяин, — сказал он. — Грубые слова прилипают к моим зубам, как грязь к сапогам. Я не могу составлять гладкие фразы и говорить любезности, не могу. Но ты все равно меня поймешь.
Зорба проглотил вино и посмотрел на меня.
— Ты понимаешь! — воскликнул он, будто его вдруг охватил гнев. — Ты понимаешь и именно это тебя погубит! Если бы ты не понимал, ты был бы счастлив. Чего тебе не хватает? Ты молод, умен, у тебя есть деньги, хорошее здоровье, ты хороший парень, у тебя все есть, клянусь тебе! Кроме одной вещи — безрассудства. Но уж, если этого нет, хозяин… Он покачал своей большой головой и снова замолчал.
Еще немного и я бы заплакал. Все то, о чем говорил Зорба, было справедливо. Ребенком я был полон безрассудных порывов, желаний, которые обгоняют развитие человека, и домашние не могли меня удержать. Мало-помалу с течением времени я стал более благоразумным: устанавливал границы возможного и невозможного, отделял мирское от божественного, крепко держал за бичеву своего бумажного змея, чтобы он не ускользнул.
Огромная падающая звезда прочертила небо; Зорба вздрогнул и округлил глаза, словно впервые увидел падающую звезду.
— Ты видел звезду? — спросил он меня.
— Да.
Мы замолчали.
Вдруг Зорба вытянул тощую шею, набрал в легкие воздуху и дико, отчаянно закричал. Крик тотчас превратился в человеческую речь, из нутра Зорбы полилась старая, монотонная турецкая песня, полная печали и одиночества. Недра земли раскололись, разлился сладчайший восточный яд; я почувствовал, как во мне истлевают все нити, которые еще связывали с надеждой и добродетелью:
Ики киклик бир тепенде отийор
Отме де, киклик, беним дертим иетийор,
аман! аман!
Кругом был пустынный берег, мелкий песок насколько хватает глаз; дрожал розовый, голубой, желтый воздух, безумно кричала душа, ликуя от того, что поет одна. Глаза мои наполнились слезами.
Две куропатки пели на холме.
Замолчи птица, мне хватит и своих забот,
аман! аман!
Зорба замолчал; резким движением он вытер со лба пот и уставился в землю.
— О чем эта турецкая песня, Зорба? — спросил я, немного помолчав.
— Это песня погонщика верблюдов. Ее поют в пустыне. Много лет я не вспоминал ее. А сегодня вечером… Мой товарищ поднял голову и посмотрел на меня, голос его был сух, горло судорожно сжалось.
— Хозяин, — сказал он, — пора спать. Завтра тебе вставать на заре, чтобы отправиться в Кандию и сесть на пароход. Доброй ночи!
— Мне не спится, — ответил я. — Я останусь с тобой. Это последний вечер, когда мы вместе.
— Именно потому надо покончить, как можно быстрее, — воскликнул Зорба и перевернул свой пустой стакан в знак того, что больше не хочет пить. — Так же тверды настоящие мужчины, когда мужественно бросают курить, пить вино или играть. Чтоб ты знал, мой отец был храбр, не каждому ровня. На меня не смотри, я по сравнению с ним трус, в подметки ему не гожусь. Он был из тех, прежних греков… Когда он пожимал тебе руку, то дробил твои кости. Если я могу время от времени говорить, то мой отец ревел, ржал и пел песни. Он редко произносил поистине человечьи слова.