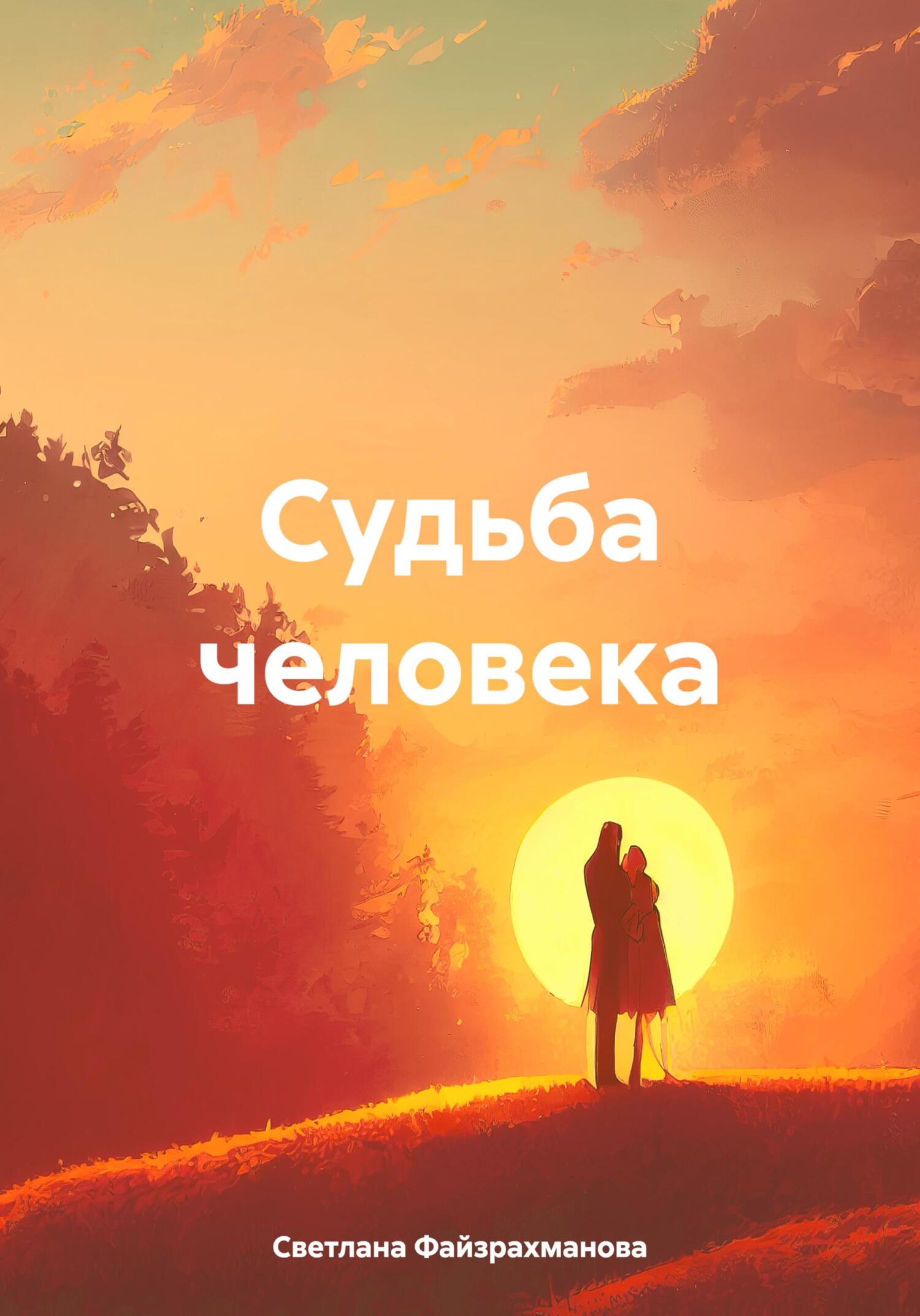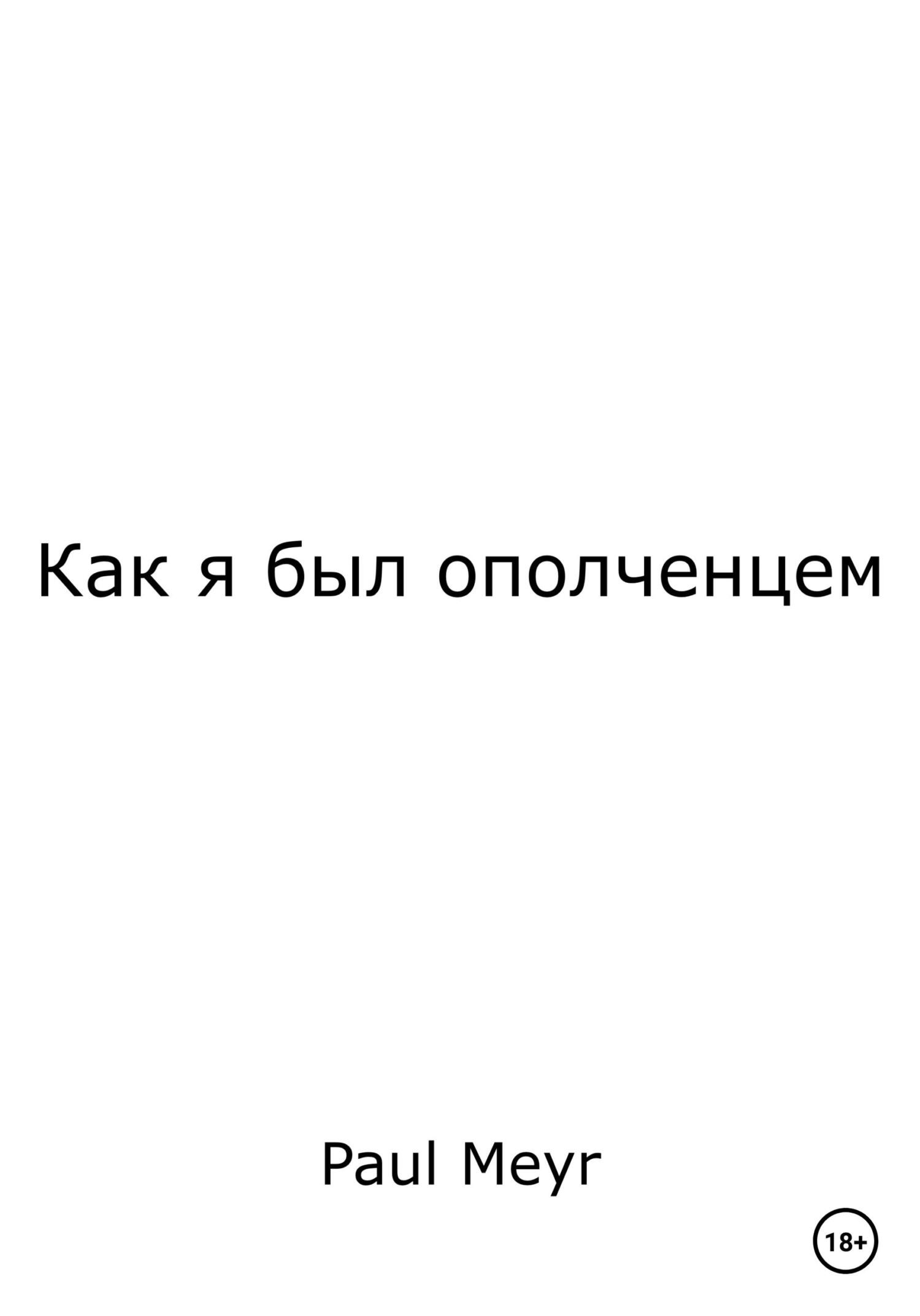ИЗУЧЕНИЕ НЕВРОЛОГИИ ПОМОГАЛО МНЕ В ПОИСКЕ ОТВЕТА НА ВОПРОС: КАК МОЗГ ПРЕВРАЩАЕТ ЧЕЛОВЕКА В СУЩЕСТВО, СПОСОБНОЕ НАЙТИ СМЫСЛ ЖИЗНИ?
Внезапно я понял, чего хочу. Пусть советники соорудят погребальный костер, а затем смешают мой прах с песком. Пускай кости мои затеряются в лесу, а зубы в земле… Я не верю ни в мудрость детей, ни в мудрость стариков. Наступает момент, когда весь накопленный опыт стирается деталями существования. Мы никогда не бываем мудрее, чем в настоящий момент.
Вернувшись из лагеря, я не жалел, что отказался от обезьян. Жизнь казалась мне полной, и на протяжении следующих двух лет я продолжал стремиться к более глубокому пониманию разума. Я занимался литературой и философией, чтобы понять, что наполняет существование человека смыслом. Изучение неврологии и работа в кабинете функциональной магнитно-резонансной томографии помогали мне в поиске ответа на вопрос: как мозг превращает человека в существо, способное найти смысл жизни? Одновременно я проводил время в кругу близких друзей, занимаясь всякой ерундой. Мы совершали набеги на университетскую столовую в костюмах монголов, создали вымышленное студенческое братство с вымышленными еженедельными мероприятиями, фотографировались у ворот Букингемского дворца в костюмах горилл, ворвались ночью в Мемориальную церковь, лежали там и слушали эхо и т. д. (Позже я узнал, что Вирджиния Вулф и ее приятели однажды проникли на королевский линкор в костюмах абиссинской знати. После этого я перестал хвастаться нашими банальными проделками.)
На последнем курсе, во время одного из заключительных занятий по неврологии и этике, мы посетили интернат для детей с тяжелыми мозговыми повреждениями. Попав в холл, мы сразу же услышали безутешный плач. Наш гид, дружелюбная тридцатилетняя женщина, представилась группе, но мои глаза блуждали в поисках источника шума.
За стойкой администратора висел большой телевизор, на котором без звука был включен сериал. На экране голубоглазая брюнетка с хорошей прической, эмоционально покачивая головой, умоляла о чем-то героя за кадром. Затем показали ее любимого: у него был мощный подбородок и, вне всяких сомнений, низкий голос. Через мгновение герои начали страстно целоваться. Плач становился все пронзительнее.
Я незаметно заглянул за стойку администратора: перед телевизором на голубом коврике сидела девушка лет двадцати. Сжатые в кулаки руки она плотно прижимала к глазам, качалась вперед-назад, плакала и плакала. Я заметил, что волос на затылке у нее не было: там виднелся большой участок бледной кожи.
Я сделал шаг назад, чтобы снова присоединиться к группе, уходящей на экскурсию по зданию. После разговора с гидом я узнал, что многие здешние обитатели чуть не утонули в детстве. Оглядываясь по сторонам, я заметил, что других посетителей в интернате не было. Я спросил: «Неужели здесь всегда так пусто?»
Нам рассказали, что поначалу члены семьи приходят регулярно: каждый день или даже дважды в сутки. Затем через день. Потом только по выходным. Через несколько месяцев или лет родственники объявляются только в день рождения и Рождество. В конце концов большинство из них переезжает как можно дальше отсюда.
«Я их не виню, – сказала гид. – Тяжело ухаживать за такими детьми».
Внутри себя я просто пришел в ярость. Тяжело? Конечно, это тяжело, но как можно бросать своих детей? В одной из палат больные лежали очень спокойно, стройными рядами, словно солдаты в казарме. Я шел по такому ряду, пока не встретился взглядом с одной из пациенток. Она была подростком с темными спутанными волосами. Я остановился и попытался улыбнуться, чтобы уделить ей немного внимания. Я взял девочку за руку: она была вялой. Но девочка посмотрела прямо на меня и издала булькающий звук.
– Мне кажется, она улыбается, – сказал я гиду.
– Возможно, – ответила она. – Иногда сложно сказать наверняка.
Но я был в этом уверен. Девочка улыбалась.
Вернувшись в университет, я решил поговорить с преподавателем. «Ну, как впечатления?» – спросил он.
Я открыто рассказал ему, что не понимаю, как родители могут бросать этих несчастных детей, и упомянул об улыбке той девочки.
Преподаватель был одним из тех людей, которые имеют свое устоявшееся мнение о связи науки и этики. По этой причине я полагал, что он со мной согласится.
– Ну да, – сказал он, – ты молодец. Но, понимаешь, некоторым из этих детей лучше было бы умереть.
Я схватил сумку и вышел из кабинета.
Она правда улыбалась.
Только какое-то время спустя я понял, что эта экскурсия помогла мне по-новому взглянуть на то, что мозг дает нам возможность строить отношения и наполнять жизнь смыслом. Но иногда мозг нас подводит.
После окончания университета меня не покидало ощущение, что я еще слишком многого не знаю и что прекращать учиться мне пока рано. Поэтому я подал документы в магистратуру Стэнфорда по направлению «Английская литература» и был принят. Я считал язык практически сверхъестественной силой, которая заставляет наш мозг, заключенный в череп толщиной в сантиметр, вступать в коммуникацию с другими людьми. Слово приобретает смысл только в общении, а смысл жизни и ее качество неразрывно связаны с глубиной взаимоотношений, в которые мы вступаем. Именно человеческие отношения являются фундаментом значимости существования. Однако отношения формируются в наших мозгах и телах, работа которых часто нарушается. Мне казалось, что язык жизни как таковой: страсти, голода, любви – связан, хоть и косвенно, с языком нейронов, пищеварительного тракта и сердцебиения.
СМЫСЛ ЖИЗНИ И ЕЕ КАЧЕСТВО НЕРАЗРЫВНО СВЯЗАНЫ С ГЛУБИНОЙ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ, В КОТОРЫЕ МЫ ВСТУПАЕМ.
В Стэнфорде мне посчастливилось учиться у Ричарда Рорти [23], возможно, величайшего философа времени. Под его влиянием я стал рассматривать все университетские дисциплины в качестве средств расширения словарного запаса и инструментов, необходимых для понимания жизни. Помогала мне и хорошая литература. Для написания диссертации я изучал работы Уолта Уитмена, поэта, которого еще век назад интересовали те же самые вопросы, что не давали покоя мне сейчас. Он тоже пытался понять и описать то, что он называл «человеком физиологическим и духовным».
Дописав диссертацию, я пришел к выводу, что Уитмен добился не большего успеха, чем все остальные, в составлении связного «физиологически духовного» словаря, но пути, которыми он пытался это сделать, были выдающимися. Я все больше убеждался в том, что не хочу продолжать заниматься литературой: в последнее время я оказался вынужден углубиться в политику и отдалиться от науки. Один из моих научных руководителей заметил, что мне будет сложно найти себе место в литературном мире, так как большинство докторов филологических наук относятся к естественным наукам, как «обезьяны к огню», с ужасом. Я не понимал, куда меня вела жизнь.
Моя диссертация «Уитмен и медикализация личности» получила высокую оценку, но она была слишком нешаблонной: в ней содержалось столько же истории психиатрии и неврологии, сколько литературной критики. Она не вполне соответствовала требованиям факультета английской литературы. Я не вполне соответствовал его требованиям.
ХОТЯ МОЙ ОТЕЦ, ДЯДЯ И СТАРШИЙ БРАТ БЫЛИ ВРАЧАМИ, Я НЕ ДУМАЛ О МЕДИЦИНЕ КАК О СВОЕМ ПРЕДНАЗНАЧЕНИИ.
Некоторые из моих ближайших университетских друзей отправились в Нью-Йорк, чтобы найти свое место в драматургии, журналистике и на телевидении. Я решил присоединиться к ним и начать жизнь заново. Однако меня продолжал мучить вопрос: как пересекаются биология, этика, литература и философия? Как-то я возвращался домой с футбольного матча, легкий осенний ветерок дул мне в лицо, и я задумался. Голос твердил: «Садись за книги!» Но я услышал и другой голос, который говорил: «Отложи книги в сторону и займись медициной». Внезапно все стало предельно ясно. Хотя мой отец, дядя и старший брат были врачами, я никогда не думал о медицине как о своем предназначении. Но разве не сам Уитмен писал, что только врач способен по-настоящему понять «человека физиологического и духовного»?