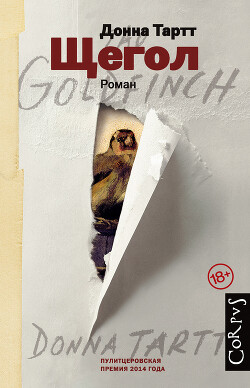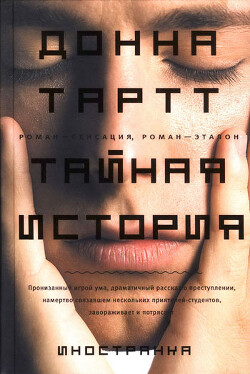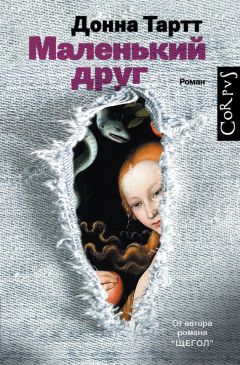— Урод! — пробулькал я, когда он выплыл обратно. Он попытался что-то сказать, но я изо всех сил плеснул водой ему в лицо — еще, и еще, — а потом запустил руки ему в волосы и окунул в воду.
— Придурок вонючий! — проорал я, когда он снова всплыл — задыхаясь, по лицу стекает вода. — Никогда больше так не делай!
Я уперся обеими руками ему в плечи и хотел было навалиться на него и уйти под воду — загнать его поглубже, подержать там хорошенько, как вдруг он вытянул руку, вцепился в мою и я заметил, что лицо у него белое и он весь дрожит.
— Хватит, — сказал он, хватая ртом воздух, и тут я наконец увидел, до чего у него помутневшие, странные стали глаза.
— Эй, — спросил я, — ты как?
Но его скрутил такой приступ, кашля, что он не мог ответить. Из носа у него снова пошла кровь — темные струи хлынули между пальцев. Я подхватил его, и вместе мы с ним выползли на ступеньки бассейна — ноги так и остались в воде, сил не было даже вылезти.
23
Разбудило меня яркое солнце. Мы лежали у меня в кровати, полуодетые, с мокрыми головами, дрожа от нагнанного кондиционером холода, а между нами, похрапывая, спал Поппер. Простыни были сырые, и от них воняло хлоркой, голова у меня раскалывалась, а во рту был мерзкий металлический привкус, будто я сосал горстку мелочи.
Я замер, боясь, что если сдвину голову хоть на миллиметр, то меня вырвет, потом — очень аккуратно — поднялся, сел.
— Борис? — позвал я, потирая щеку тыльной стороной ладони. Подушка была перемазана потеками засохшей крови. — Ты не спишь?
— Ой, бо-о-же, — простонал Борис — мертвенно-бледный, взмокший от пота, он перекатился на живот и вцепился в матрас. Из одежды на нем были только его браслеты а-ля Сид Вишес и трусы — похоже, мои. — Меня щас стошнит.
— Не здесь, — пнул я его, — вставай!
Бормоча что-то себе под нос, он поковылял в ванную. Слышно было, как его там выворачивает. От этого звука меня и затошнило, и немного пробило на истерику. Я перевернулся на живот и захохотал в подушку. Когда Борис на заплетающихся ногах вернулся обратно, я аж вздрогнул, увидев его фингал, запекшуюся у ноздрей кровь и покрытую коркой ссадину на лбу.
— Ого, — сказал я, — выглядишь ты жутко. Тебя зашивать надо.
— Знаешь что? — спросил Борис, шлепнулся обратно на кровать, лег на живот.
— Что?
— Мы, блин, в школу опоздали!
Мы катались по кровати и захлебывались от хохота. Я был весь разбит, меня тошнило, но и то думал, никогда не перестану смеяться.
Борис свесился с кровати, зашарил рукой по полу. Хлоп — снова поднял голову:
— Ай, это что такое?
Я сел и жадно потянулся за водой, ну, то есть я думал, что это вода, но тут он сунул стакан мне под нос, и от запаха к горлу подкатила тошнота.
Борис заухал. Быстрее молнии навалился на меня: сплошь острые кости и клейкая кожа, от него несло потом, рвотой и еще чем-то, грязным, сырым, будто стоячей водой из пруда. Он больно ущипнул меня за щеку и ткнул стаканом водки мне прямо в лицо:
— Пора пить лекарство! Ну-ну-ну, — крикнул он, когда я вышиб стакан у него из рук и заехал ему по губе скользящим ударом, который как-то никуда и не попал.
Возбужденно гавкал Поппер. Борис зажал мою голову у себя под мышкой, схватил мою вчерашнюю грязную рубашку и попытался засунуть мне ее в рот, но я был проворнее и столкнул его с кровати, так что он врезался головой в стену.
— Ой, бля, — сказал он, сонно потирая лицо раскрытой ладонью, посмеиваясь.
Я встал, пошатываясь, покрывшись холодным потом, и добрел до ванной, где в один-два мощных приступа — уперевшись рукой в стену — вывернул все, что было в желудке, в унитаз. Слышно было, как ржет Борис в соседней комнате.
— Два пальца в рот! — крикнул он, и что-то еще потом, что я упустил, потому что вновь содрогнулся от рвоты.
Когда все прошло, я пару раз сплюнул, затем утер рот тыльной стороной ладони. В ванной был ад: из душа капало, дверцы нараспашку, на полу навалены чавкающие водой полотенца и окровавленные тряпки. Зябко поеживаясь после приступа тошноты, я зачерпнул ладонями воды из-под крана, попил, поплескал себе в лицо. Мое гологрудое отражение в зеркале было сгорбленным, бледным, губа, которую мне накануне разбил Борис, раздулась.
Борис все так же лежал на полу, обмяк, прислонившись головой к стене. Когда я вернулся, он приоткрыл здоровый глаз и усмехнулся, глядя на меня:
— Получше?
— Пошел в жопу! Даже, сука, не говори со мной!
— Поделом тебе. Говорил, не дури с этим стаканом.
— Говорил?
— Совсем не помнишь? — он потрогал языком верхнюю губу, проверил, не кровит ли она снова. Теперь, когда на нем не было рубашки, видны были все зазоры у него между ребрами, все застарелые следы от побоев, краснота загара, расползавшаяся по груди. — Стакан на полу, о-о-очень дурная идея. К несчастью! Говорил тебе, не ставь его там. Теперь беда будет.
— Не надо было мне водку на голову лить, — сказал я, нащупал свои очки и затем вытащил из общей кучи грязной одежды на полу первые попавшиеся штаны.
Борис ущипнул себя за переносицу, рассмеялся:
— Да я помочь тебе хотел. Капелька бухла — и сразу лучше.
— Да уж, огромное тебе спасибо.
— Я правду говорю. Если ее потом не сблевать обратно. Голова проходит сразу, как по волшебству. От отца моего толку мало, но вот этой, очень толковой вещи он меня научил. А лучше всего, если есть холодное пивко.
— Ну-ка, поди сюда, — сказал я. Я стоял у окна и глядел на бассейн под окнами.
— А?
— Поди, погляди. Хочу, чтоб ты это увидел.
— Ну просто скажи, что там, — промямлил с пола Борис. — Неохота вставать.
— Уж придется.
Внизу было настоящее место преступления. На каменной дорожке, ведущей к бассейну, — полоса кровавых брызг. Вокруг беспорядочно раскиданы, разбросаны ботинки, джинсы, промокшая от крови рубашка. На дне бассейна, в самом глубоком месте, плавал прохудившийся Борисов ботинок. И самое ужасное: на отмели, у ступенек, колыхалась жирная пена блевотины.
24
Без особого усердия повозив туда-сюда пылесосом для бассейна, мы уселись на кухне — курили отцовские «Вайсрой», болтали. Был почти полдень — и думать поздно о том, чтоб пойти таки в школу. Борис — расхристанный, весь какой-то взвинченный, рубашка сваливается с плеча, хлопает дверцами шкафчиков, сокрушается, что нет чая — заварил нам отвратительного кофе, вскипятив на русский манер перемолотые зерна в кастрюльке.
— Нет-нет, — остановил он меня, когда я налил себе кофе в обычного размера чашку. — Очень крепкий, очень мало надо.
Я отпил, поморщился.
Он окунул в кофе палец, облизнул его.
— Хорошо бы печенья.
— Издеваешься?
— А хлеба с маслом? — с надеждой спросил он.
Я сполз с кухонной стойки — аккуратненько, потому что голова болела по-прежнему, порылся в ящиках и в одном наконец нашел сахар в пакетиках и пачку кукурузных чипсов, которые Ксандра притащила из бара.
— Жесть, — сказал я, взглянув на его лицо.
— Чего?
— Что это тебя отец так.
— Да ничо, — промычал Борис, наклонив голову так, чтоб получилось засунуть чипс в рот целиком. — Однажды он мне ребро сломал.
Наступило долгое молчание, потом я сказал, просто потому, что больше не знал, что сказать:
— Ну, сломанное ребро — это не так уж страшно.
— Не, но больно. Вот это, — он задрал рубашку и показал мне, какое ребро.
— Я думал, он тебя убьет.
Он поддел меня плечом:
— Ай, я его нарочно разозлил. Огрызнулся. Чтоб ты смог Попчика оттуда увести. Слушай, нормально, — покровительственно добавил он, потому что я так и стоял, вытаращившись на него, — да, вчера ночью он рвал и метал, но когда он меня увидит, ему будет очень стыдно.
— Может, тебе тут какое-то время пожить?
Борис отставил руки назад, откинулся, снисходительно усмехнулся:
— Да не волнуйся. Бывает у него депрессия, вот и все.
— А-а… — В сдобренном «Джонни Уокером» прошлом, отец — со следами рвоты на сорочках, под звонки разъяренных сослуживцев, иногда даже со слезами на глазах — валил все свои приступы бешенства на «депрессию».