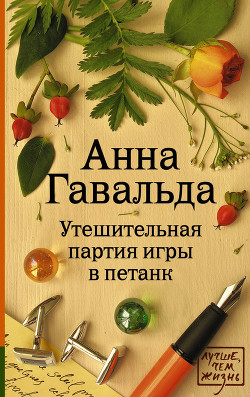Вот так. Подвел итог. Обычно он это делает после кофе, но тут, очевидно, проблемы с простатой — решил не дожидаться. Ну и ладно… Заткнись, наконец.
Извините, уже говорил, устал.
Франсуаза возвращается с фотоаппаратом, выключает свет, Лоранс незаметно поправляет прическу, дети чиркают спичками.
— В коридоре забыли погасить! — кричит кто-то. Я самоотверженно отправляюсь в прихожую.
Но пока ищу выключатель, на глаза мне попадается конверт, лежащий сверху в стопке моей корреспонденции.
Длинный белый конверт, черными чернилами написан адрес, почерк узнаю с первого взгляда. Почтовый штемпель ничего не говорит. Название города, индекс — нет, адрес мне незнаком, даже не представляю, где это, зато почерк, почерк…
— Шарль! Ну в чем дело? Что ты там застрял? — доносится из столовой, и огоньки уже зажженных на торте свечей дрожат, отражаясь в окнах.
Я выключаю свет и возвращаюсь к ним. На самом деле меня здесь больше нет.
Я не вижу лица Лоранс в мерцании свечей именинного торта. Я не подпеваю «С днем рожденья тебя». Даже не пытаюсь аплодировать. Я… Я чувствую себя, как тот шизик, куснувший свою «мадленку», только — наоборот. Сжимаюсь в комок. Не хочу ничего вспоминать. Чувствую, как прошлое, о котором и думать забыл, разверзается у меня под ногами, что за краем ковра — пропасть, замираю на месте, инстинктивно оглядываюсь в поисках опоры — дверной косяк, спинка стула, что-нибудь. Да, я прекрасно знаю этот почерк, и это значит, что-то случилось. Я не могу, не хочу это признать, но… мне страшно. Сам не знаю, чего боюсь. В голове гудит так, что внешние шумы туда просто не долетают. Я не слышу криков, не слышу, что меня просят снова зажечь свет.
— Шар-лё!
Извините.
Лоранс разворачивает свои подарки. Клер протягивает мне лопаточку для торта:
— Эй! Ты чего там, стоя есть собрался?
Я сажусь, кладу кусок торта себе на тарелку, втыкаю в него нож и… снова встаю.
Письмо не дает мне покоя, и я осторожно вскрываю конверт ключом. Лист сложен втрое. Раскрываю первую складку, слышу, как бьется сердце, потом вторую — сердце останавливается.
Два слова.
И только. Даже подписи нет.
Всего два слова.
Вжик! и готово.
И нож гильотины можно поднимать.
Поднимаю голову, вижу свое отражение в зеркале над консолью. Очень мне хочется хорошенько встряхнуть этого типа, высказать ему, что я об этом думаю: И что ты нам тут пудрил мозги своими «мадленками» и прочей херней, а? Ведь ты же знал…
Прекрасно знал, разве не так?
Ответить ему нечего.
Мы смотрим друг на друга, поскольку я не реагирую, в конце концов, он что-то мне бормочет. Я ничего не слышу, но вижу, как дрожат его губы. Что-то вроде: «Эй, ты, останься. Останься с ней. Мне надо уйти. Я обязан, понимаешь, но ты, ты останься. Я справлюсь там за тебя».
Он возвращается к своему клубничному торту. Слышит звуки, голоса, смех, берет бокал шампанского, который кто-то ему протягивает, чокается, улыбается. Женщина, с которой он столько лет живет, обходит стол, целуясь со всеми. Целует заодно и его, говорит, сумка чудесна, спасибо. Отворачиваясь от ее благодарности, он признается, что сумку выбирала Матильда, та яростно протестует, словно он ее предал. Почувствовав наконец запах духов Лоранс, он ищет ее руку, но она уже далеко, целуется с кем-то еще. Он снова протягивает бокал. Бутылка пуста. Встает, идет за другой. Откупоривает ее слишком быстро. Фонтан пены. Наливает себе, опорожняет бокал, наливает следующий.
— Ты в порядке? — спрашивает соседка по столу.
— …
— Что с тобой? Ты так побледнел, словно привидение встретил…
Он пьет.
— Шарль… — шепчет Клер.
— Ничего, я просто смертельно устал…
Он пьет.
Трещины. Пробоины. Обвалы. Он не поддается. Облезает лак, не выдерживают шарниры, вылетают болты.
Он не поддается. Борется. Пьет.
Старшая сестра смотрит на него искоса. Он пьет за ее здоровье. Она не унимается. Он говорит ей с улыбкой, отчеканивая каждое слово:
— Франсуаза… Хоть раз в жизни… Оставь меня в покое… Она ищет глазами своего верного рыцаря кретина-мужа, надеясь на его защиту, но тот не понимает, что она от него хочет. Она меняется в лице. Но к счастью, трам-тарарам!.. вторая сестра уже тут как тут!
Эдит обращается к нему ласково, покачивая головой в обруче:
— Шарло…
Он пьет и за ее здоровье тоже, хочет еще что-то сказать, но чья-то рука ложится ему на запястье. Он оборачивается. В руке чувствуется сила, он успокаивается.
Гомон возобновился. Рука не двигается. Он смотрит на Клер.
— У тебя есть сигареты? — спрашивает он.
— Пфф? Ты бросил курить пять лет назад, просто напомнила…
— Есть?
Его голос ее пугает. Она убирает руку.
Они стоят рядом, облокотившись на парапет террасы, спиной к свету и миру.
Перед ними сад их детства. Все те же качели, так же безупречно ухожены клумбы, все та же печка для опавших листьев, все тот же вид, скрывающий горизонт.
Клер достает из кармана пачку сигарет, кладет на парапет. Он протягивает руку, но она его останавливает:
— Ты помнишь, как тебе было тяжело первые месяцы? Помнишь, чего тебе стоило бросить?
Он сжимает ее руку. Он делает ей по-настоящему больно, он говорит:
— Анук умерла.
3
Сколько времени уходит на то, чтобы выкурить сигарету? Минут пять?
Значит, пять минут они проводят молча. Она не выдерживает первой, и то, что она говорит, его удручает. Потому что он боялся именно этих слов…
— Это тебе Алексис сообщил?
— Я так и знал, что ты это спросишь, — произнес он устало, — даже не сомневался, и ты не представляешь себе, как меня это…
— Тебя это что?
— Как меня это убивает… Как мне неприятно… Как я на тебя зол… Я все же надеялся, что ты будешь более великодушна, для начала спросишь хотя бы: «Как это случилось?» или «Когда?» или… ну я не знаю. Но только не о нем, черт… Только о нем… Хотя бы не так сразу… Он этого не заслуживает.
Опять молчание.
— От чего она умерла?
Из внутреннего кармана пиджака он достает письмо.
— Держи… И не говори мне, пожалуйста, что это его почерк, иначе я тебя убью.
Теперь она разворачивает письмо, потом складывает его, шепчет:
— Но это действительно его почерк…
Он поворачивается к ней.
Столько всего хочется ей сказать. Столько нежных, страшных, резких, мягких, глупых слов, по-братски, напрямую, без обиняков, как товарищу по оружию или по монастырю. Встряхнуть ее, ударить, разрубить пополам, но вместо этого, лишь протянул жалобно и односложно:
— Клер… — все, что смог из себя выдавить.
А она, притворщица, улыбается ему, словно ничего не произошло. Но он слишком хорошо ее знает, к чему церемонии, он хватает ее под локоть, заставляет опомниться.
Она спотыкается, а он, он говорит ни к кому не обращаясь. Говорит в темноту.
Говорит для нее, для себя, для опавших листьев, для звезд:
— Ну вот… все кончено.
Вернувшись на кухню, рвет письмо и выбрасывает его в мусорное ведро. Отпускает педаль, крышка захлопывается, и ему кажется, что он вовремя успел закрыть ящик Пандоры. И раз уж оказался перед раковиной, кряхтя умывается.
Возвращается к остальным, к жизни. Ему уже лучше. Все кончено.
*
А сколько длится ощущение свежести от холодной воды на уставшем лице?
Двадцать секунд?
И все сначала: взглядом находит свой бокал, осушает залпом, наливает снова.
Садится на диван. Приваливается к своей спутнице, она дергает его за полу пиджака.
— Эй, ты… Будь со мной поласковее, ты… — предупреждает он ее, — а то я уже хорош…
Ее это вовсе не забавляет, скорее раздражает и напрягает. Он как будто трезвеет.
Наклоняется, кладет руку ей на колено и, снизу вверх заглядывая в глаза, спрашивает:
— А ты знаешь, что однажды умрешь? Знаешь это, радость моя? Что ты тоже сдохнешь?
— Он и впрямь перепил! — возмущается она, силится рассмеяться, потом спохватывается: