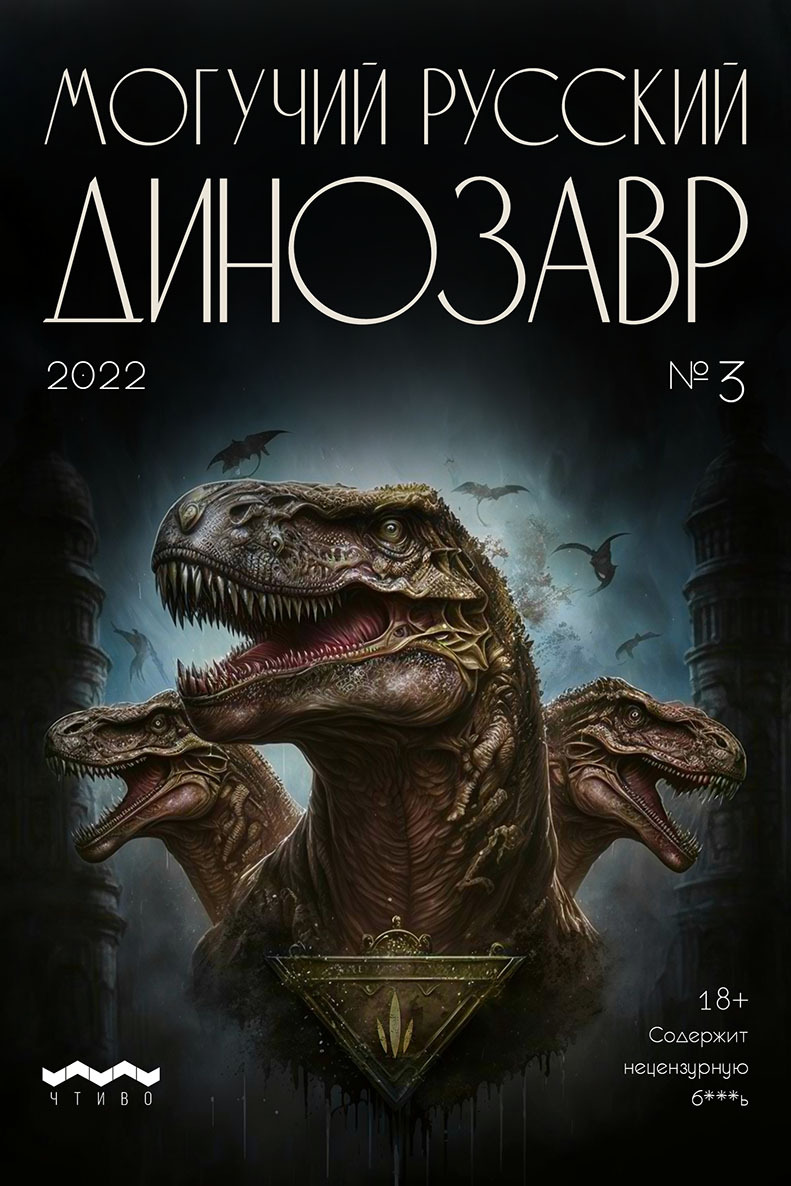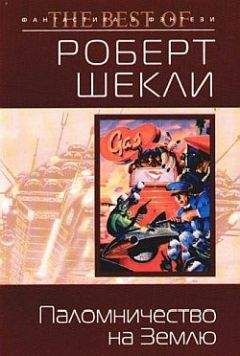и прятался от людей, чтобы не заметили мои мокрые брюки.
«Как сейчас мама? Грустно ей или весело? Когда столько счастья, столько нас, как можно грустить? И скоро Новый год. Пусть мама всегда будет счастлива!» – я думал всё медленнее.
Потом я уже не знал, думаю или нет, стал приходить сон, в нём начиналось лето, вода в речке становилась тёплой. В какой-то момент, в котором я уже не чувствовал, но был в нём по-детски счастлив, я, Максим К., умер.
С невысокого холма по песчаной, залитой жёлтым светом дороге к берёзовому лесочку, к мирно журчащей речке потихоньку шагали разномастные цыганские лошадки, запряжённые в крытые пёстрыми коврами и попонами кибитки. Негромкий, нежный хор девичьих голосов сливался с пением полевых птах.
Старый цыган в рваной, потерявшей цвет рубахе, с большой серебряной серьгой в сморщенном чёрном ухе, погонявший переднего гнедого, поднял руку, крикнул, оглянувшись назад. Повозки свернули к реке.
Позвякивая монистами, выбрались из кибиток девушки, легко прыгая по камням босыми ногами, побежали к воде, но строгий окрик бабушки заставил их вернуться.
На зелёной лужайке задымился костёр, рядом – гора хвороста. В полукружье повозок, входами друг к другу, стояли несколько рогожных и полотняных палаток. Большой, покрытый ковром шатёр в центре.
Женщины хлопотали над закопчённым котлом, покрикивая на полуголых ребятишек, затеявших беготню между палатками.
Девушки столпились на берегу, за частыми кустами ивняка, скрываясь от глаз соплеменников, сбрасывали с себя юбки-индараки и, оставшись в одной, нижней, с шумом, с визгом бросались в чистые струи.
Накупавшись, принялись за стирку, бережно передавая друг другу серый кусок мыла и старательно раскладывая на тёплых камнях выстиранную одежду.
Потом ещё долго отмывали, отстирывали ребятишек, а самых маленьких купали у костра, в нагретой воде, выкопав в земле ямку и выстелив её старой, наполовину стёршейся клеёнкой.
Солнце медленно ползло к горизонту. Надвигались сумерки.
У костра цыганки кормили детей, деревянными ложками зачёрпывая из железных мисок густое варево. Мужчины, расположившись в стороне, курили, поджидая, когда освободится посуда.
Женщины и девушки ели последними.
Солнце село за реку, надвинулись синие сумерки. Лёгкий дневной ветерок усилился и будто бы остыл без солнышка.
Молодая пышноволосая красавица с тяжёлым, подвязанным чёрным платком животом, неспешно направилась к берегу, вошла по колено в потемневшую воду, не заботясь о намокших юбках. Осторожно склонилась над потемневшими струями, зачёрпывая ладонями, и вдруг насторожилась, услышав странный звук, будто звякнул металл. Выпрямилась, испуганно осматриваясь. Что-то большое и непонятное покачивалось на воде в нескольких шагах от неё. Ужас охватил цыганку. Однажды в детстве ей случилось видеть распухшего утопленника, и братья рассказывали, как неожиданно он всплыл прямо перед ними.
Женщина пронзительно закричала. От шатров к берегу бросились трое молодых парней, и следом две длиннокосые девочки лет десяти с одинаковыми лицами. Беременная цыганка, держась одной рукой за живот, другой показывала на неизвестный предмет.
Это был большой мешок, в котором что-то тихонько позвякивало. Потянули и решили, что находка зацепилась за корень или острый камень на дне. Но через секунду из воды показался маленький худой человек, вцепившийся руками в верёвку, которой был завязан мешок.
– Раклори! Чужая девочка! – закричали глазастые близнецы. Однако старшие быстро распознали свою, племяшку беременной цыганки, девочку Лёльку. Её моментально вытащили на берег, тормоша и расспрашивая, почему она оказалась в воде. Она не отвечала, только оглядывалась, моргая мокрыми ресницами, дрожа, откашливаясь и всхлипывая, крепко сжимала в руках верёвку.
– Что у тебя в мешке? – спросила её беременная, и девочка, будто опомнившись, протянула ей верёвку. Любопытные лица склонились над мешком. Парень, первым обнаруживший находку, торопливо пытался развязать намокший узел.
– Успеете посмотреть! – раздался грубый окрик старика с серьгой. – Чаялэ! Отведите её к костру, дайте сухую рубашку!
Девушки увлекли Лёльку за собой в рогожную палатку, растёрли холстинкой, заставили переодеться.
Тем временем совсем стемнело, и бархатный звёздный шатёр простёрся над табором. Костёр запылал ярче.
Цыгане с трудом развязали мешок (старик строго запретил резать хорошую верёвку) и с громкими возгласами доставали из него солдатские кружки, миски, помятую кастрюлю, побитый молочный бидончик без крышки, несколько пустых бутылок с пробками, связку больших и маленьких свечей, смотанных бечёвкой, обёрнутые больничной клеёнкой ношеные сапоги яловой кожи, в одном из которых лежал грубый самодельный нож с деревянной ручкой. В цветастую клеёнку, которой, судя по вытертым сгибам, когда-то накрывали большой стол, были завёрнуты несколько аккуратно сложенных кусков намокшей ткани разных расцветок, местами довольно ветхой, несколько пар шерстяных носков разных размеров, штопанные на локтях детские кофты, две пары детских ботинок с ободранными носами, тщательно смазанных ваксой. Было там ещё немало завёрнутых в тряпки хозяйственных мелочей: слегка ржавые ножницы, жестяная коробка с ухналями (гвоздями для подков), ещё одна с колёсной мазью, костяной гребень, клубок прочных чёрных ниток с иголками в консервной банке и, к визгливому восторгу маленьких цыганок, кукла с торчащими волосами, спелёнатая ситцевым платком.
Лёльку привели к костру, усадили на одеяло, налили в кружку чая с сушёными яблоками и хотели было начать допрос, но она, сделав несколько глотков, осторожно поставила кружку на землю, прислонилась спиной к колесу кибитки, закрыла глаза и заснула.
– Не троньте её! – сказала бабушка Софья. – Укройте, пусть спит! Завтра день будет!
Когда табор угомонился, девочка проснулась, тихонько выбралась из-под одеяла, приблизилась к затухающему костру.
О бабушке Софье цыгане говорили, что она не спит никогда. Действительно, спящей её можно было застать очень редко, и, когда это случалось, чтобы не разбудить, разговаривали вполголоса и шикали на детей. И всё равно она просыпалась через несколько минут.
Она сидела на земле у костра, покачиваясь с полуприкрытыми глазами, держа в руке потухшую трубку. Когда Лёлька подбросила дровишек в костёр, перевела на неё взгляд:
– Садись, чайри. Рассказывай.
– Что рассказывать, бабушка? Про мешок? Я не знаю… не могу вспомнить…
– Как живёшь, рассказывай. Какие сны видишь…
И девочка стала рассказывать свои странные сны, в которых она жила совсем другой жизнью.
А потом до самого утра слушала рассказ старухи о прошлом. О странной судьбе, о первой и единственной любви, о дальней-дальней дороге, приведшей её к этому негаснущему цыганскому костру…
* * *
Мы никогда не торопились из школы домой. Но с тех пор, как приехала бабушка, почти бежим. Дома всё хорошо, мама больше не плачет, папа приходит вовремя, и в кармане у него обязательно есть что-нибудь для нас: карамельки, пастила или орехи. А ещё дома нас